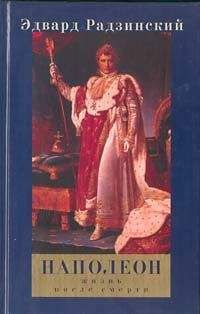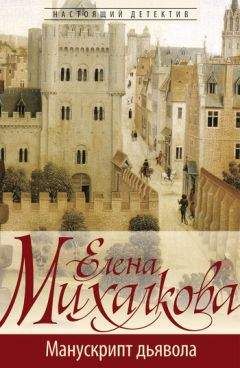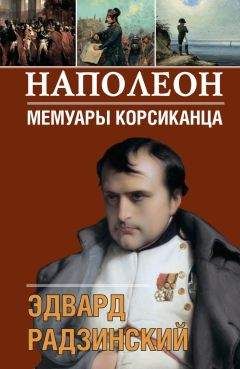Эфраим Баух - Пустыня внемлет Богу
Вот оно, чудо Божье, вложившее в память дерева на тысячелетия неотступную тайну изощренной формы листа и цветка.
Ему ли, Моисею, намек? Ему ли, Моисею, заповедано Им вложить тайну нарождающегося нового мира в души и дух этой необузданной массы у подножья горы?
«Не торопишься ли Ты, Господи, тысячелетиями пестующий тайную форму листа и цветка, обернуть вчерашних рабов в существа, безоглядно принимающие чудные в жестокой своей справедливости оковы Твоей Божественной свободы? Грех их велик. Прости их.
Ты вложил в меня дух Свой, Ты открыл мне, подобно тайне листа и цветка, тайну достигающей слуха Твоего моей молитвы. Прости их.
А если нет, то изгладь и мое имя из твоих святцев».
Моисей вздрагивает: это ведь слова Аарона.
О, как в эти мгновения жаждет Моисей навеки остаться в этой блаженной фиолетовой дымке!
Но уже набирает силу свет встающего дня. И все сильнее ощущает Моисей Его соприсутствие.
— Если Ты простил их и говоришь мне: веди народ, — открой мне путь Свой. Я должен каждый миг убеждаться заново в Твоем соприсутствии. Покажи мне…
Раздается Голос, упреждая слова, запретные для уст смертного:
«Не может человек увидеть лик Мой и остаться в живых. Знаю, после вчерашнего ты не дорожишь своей жизнью, коли отнял ее у других. Слишком легко ты произносишь слова: изгладь меня… Отряхни с себя терпкую дрему этого фиолетового рая. Дойди до края его. Стань на скале.
Это Я ставлю тебя сейчас в расселине.
Покрываю Своей дланью.
Когда сниму ее — увидишь Меня сзади. Но не лицо Мое».
Можно ли передать эту — по ту сторону сознания — осиянность — совершенную, оголенную, отменяющую всякую ощутимую сущность, ускользающую и всецело присутствующую, сжигающую себя начисто и вмиг зарождающуюся от начала начал, когда, как первый вздох родившейся плоти, ощущаешь на себе прикосновение, превращающее тебя из глины в живое существо?
Странно, недопустимо в эти мгновения осознавать свое земное, заемное, ничтожное существование и беспомощно следить, как мысль ускользает, отдаляясь во времени от этой расселины, и, в смертном трепете, он чувствует, сам пугаясь этого, как осваивается в этих мгновениях, привыкает и даже, о Господи, не видит ничего из рук вон выходящего в этой двуликой сущности, одной стороной обернутой к нему, Моисею, уже самим своим раскрытием простому смертному потерявшей многое от первозданной своей силы, и он, Моисей, массовый человек, кем он был, есть и будет, видит себя со стороны на этом ослепляющем пятачке, и этот внутренний разрыв увеличивается, как будто он на обломке доски относится течением от берега, хотя изо всех сил гребет к нему.
Неужто этот разрыв и станет его сущностью?
Да разве это важно?
В первый и в последний раз он — обычное земное существо — бросает себя навстречу озарившему Его свету — прочь от самого себя, преступает конечность земной человеческой жизни, в чем до него и после него человечеству будет отказано.
Не просто стоит вровень с бездной, а витает над ней, что дано лишь Ему, и об этом он, Моисей, записал во втором стихе великой книги Бытия: «…И Дух Божий носился над водами».
И еще — главное — понимает Моисей: Он требует от него не просто быть свидетелем их встречи, а — соучастником второго, после потопа, сотворения мира людей.
Глава двенадцатая. На рубеже земли обетованной
1. Моисей
И вновь сорок дней и сорок ночей пребывает Моисей на высотах, пишет на папирусе, вытесывает заново две каменные пластины, в которые врезает десять заповедей.
И все же, как автор, потерявший рукопись или сжегший ее, Моисей все дни оставшейся жизни будет мучиться после первых разбитых им скрижалей, не в силах избавиться от чувства, что они были лучше, спонтанней, что нечто неуловимое упущено им во второй раз.
И сходит Моисей с высот горы Синай, не зная, что его лицо от столь долгого пребывания на высотах Его излучает ту самую осиянность, обозначающую неповторимое лунное время Моисея. Странное это сияние пугает кажущиеся ему — спустившемуся с небес — покрытыми пылью земного ничтожества лица.
Аарон деликатно открывает ему причину их страха.
И, рассказывая всему стану о своем пребывании на горе Синай, Моисей все более явственно и печально ощущает каждое слово как спуск, соскальзывание вниз, и свет Божественной истины, столь свободно и раскованно раскрывшейся ему на высотах, схваченной в словах, записанной на папирусе и врезанной в камень, на глазах его и даже в интонациях его голоса превращается в оковы закона.
Все равно как поймал на высотах живую птицу, а разжал внизу ладонь — там комок глины, мертвое подобие птицы.
И, завершив рассказ, кладет Моисей на лицо свое покрывало.
Но уже на следующий день одолевает Моисея смертная тоска, не дают покоя плохие предчувствия, не радует строй ополчений двенадцати колен под искусно вытканными знаменами, подозрительно бодро удаляющийся от горы Господней в пустыню Фаран. Знает Моисей, за этим иллюзорным порядком, которого достигают сигналами труб, поднимая лагерь или созывая его к шатру Господню, таится в душах этой массы с трудом сдерживаемая, темная бродильная сила, готовая вырваться в любой миг.
Всего две трубы, вычеканенные из серебра, но их мягкие трели на восходе и на закате, жесткая трубная дробь в час тревоги или празднества, высокий, ненавязчиво ровный распев в миг новолуния, возглашающий начало нового месяца, пробуждают в душах, все еще, подобно птицам, бьющихся в силках рабства, нечто очищающе-вечное, впрямую связанное с Его присутствием.
Моисей встает задолго до появления солнца на кромке горизонта, а закат встречает, отдалившись от лагеря, — в эти мгновения Моисею близок Он, тот, из одиночества пустыни, еще не раскрывшийся, льнущий к сердцу всем вразлет раскинувшимся пространством, — Бог неба и земли, давно и неустанно шедший по Моисееву душу. На рассвете солнце возникает мгновенно, ослепительно, но высоту набирает медленно, так же медленно, нехотя, тянется к закату, но в последние мгновения, как бы устав держаться за столпы небесные, падает за кромку земли.
Трубы возвещают приход Субботы, собирая стан. По уже установившейся традиции Моисей читает книгу «В начале» — о Сотворении мира, — вновь переживая состояние, которое охватило его при написании этих слов: свет возникает изнутри до звона в ушах, страха исчезновения, жажды этого света, запредельного понимания, что этот свет и есть основа мира.
Но есть и тьма как потеря сознания, хотя огненные кони в ней несут нечто успокаивающе-домашнее — тишину степей, звуки льющейся воды, доставаемой из колодца (вода — спасительный звук жизни). Тьма требует себе законного места в мироздании и душе человека. И возникают в ней из ничего, из ничтожной клейкой капли, светила, травы, человек.
Адам и Ева осеняемы тайной вечности.
Змей нашептывает на ухо женщине. Такой страх, такое наслаждение — вкусить запретный плод. Неужели этот исчезающе малый миг, такой по-женски объяснимой и, вероятно, необходимой в этом мире опрометчивости, может изменить весь миропорядок?
Поздно. Возврата нет. Жизнь замкнулась на очевидном. Обозначилась скука, называемая историей, которая пытается себя приукрасить, пускается во все тяжкие — войнами, деспотией, рабством. Но все это безумно скучно. Захватывающе только сокровенное движение, дающее жизнь.
Бог умеет хранить свои тайны.
«Эль», — соскользнуло с уст Моисея — текучее, движущееся по гортани воздухом, из горлового канала, легким облачком между нёбом и языком, мимолетно прикасаясь к краю верхних зубов, из глубин существования, словно бы не принадлежащих произносящему. Звук исчез, но растворение его так же сладостно, как и страсть сотворения.
Вздрогнет, очнется Моисей. Не спят, но и не слышат.
Слух безмолвных трав чутче их забитого пылью пустыни и языческими соблазнами слуха, ибо оживляются, сверкая голодным блеском глаз, лишь при упоминании о зверолове и убийце Каине, о горячей красной похлебке Эсава.
Что им райский сад, что им древо жизни, древо познания добра и зла, древо снов и мечтаний, древо печали, древо человеческих душ?
Им нужно мясо.
Отвращение к мясу Моисей испытывает еще с того юношеского посещения бойни. Но это племя, которое всегда с рабской завистью взирало на египтян, пожирающих горы мяса, считая это частью их высшей кастовости, жаждет мяса, именно гор мяса, чтобы набить им брюхо.
Сейчас разбредутся, не помня ни слова из Книги, будут с отвращением жевать лепешки из манны и рыдать: кто нас накормит мясом?
Тоска подкатывает к горлу, гонит Моисея подальше от стана, в сухой хлебный запах скудных трав с дремотным голосом ночной птицы, такой же одинокой, как и он сам: