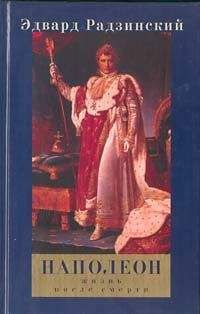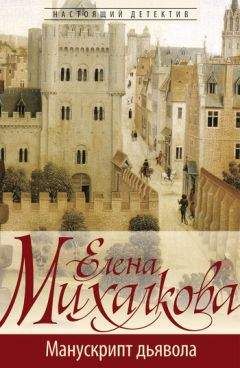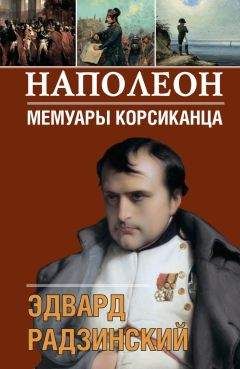Эфраим Баух - Пустыня внемлет Богу
Аарон не боится смерти, легко переносит тяготы кочевья, хотя родился в оседлости и не столь уж сильно испытал на себе жестокости рабства, но страх и боль у него за жену и детей, которые даже в минуты покоя и умиротворения не отводят от него глаз, изнывающих тревогой и надеждой. Моисей, в последнее время все чаще поднимающийся ввысь, даже вернувшись, продолжает витать поверху, и все его повеления, подкрепляемые громами и молниями, долгими и короткими звуками, извлекаемыми из бараньих рогов, столь же извитыми, как эти рога, изводящими душу, быть может, на миг устрашают эту массу, и она в безотчетном порыве — лишь бы отделаться — кричит: сделаем и послушаемся, хотя ведь происходит наоборот.
В последний раз Моисей как-то мельком сказал, что оставляет его вместо себя, взял еще с собой Йошуа бин-Нуна, который тоже умеет обуздать эту массу, и растаял в облаках, обложивших гору Синай. Как в воду канул.
Ощущая глухое брожение вокруг шатра, каждый раз после нескольких минут кошмарного сна, вскакивает Аарон, ощупывает себя, жив ли, бросается к детям, прислушиваясь к их ровному юношескому дыханию, чтобы однажды утром, забывшись более глубоким сном, ощутить в его глуби чье-то чуждое дыхание, словно отбирающее у него воздух, открыть глаза, да так и застыть на своем ложе парализованным явно звериным любопытством уставившегося в него множества глаз, словно бы никогда раньше не видевших беспомощного в своем сне существа, бесстыдно проникших в его такое беззащитное логово.
Еще не раскрыв рта, многолетним опытом долгой своей жизни читает Аарон выражение их лиц, а по сути, некоего единого безличия: страсть оскотиниться отпечатана на них — слюнявых и гугнявых, вылепленных из глины, той самой, египетской, из которой лепили кирпичи для фараона, несущей в себе всю низость той жизни, смешанной с голой жадностью обладания — жратвой, золотом, женщинами.
Глаза эти не мигают, светятся знакомым Аарону по мгновениям, предшествующим безумию или порыву к убийству, остекленевшим лунатическим блеском, и по их разевающимся в шепоте ртам — как-никак уважают сон женщин и детей — Аарон понимает:
«Встань. Сделай нам бога, который будет вести нас. Видишь — Моисей исчез».
— Серьги, — говорит наконец обретший дар речи Аарон. — Золотые. Из ушей ваших жен, сыновей, дочерей… Несите сюда.
И вышел из шатра, и запахнул вход, чтобы смрадное дыхание этого возбужденного скопища не коснулось спящих жены Элишевы и детей.
Все, что он будет сейчас делать, наперед вызывает в нем омерзение к самому себе, как это было и раньше в подобных случаях, но он уже достает тигель, разводит огонь, ставит чашу, куда они будут швырять серьги, так, чтобы он не видел их заострившихся вожделением, жаждой жертвенной крови лиц.
Пытаясь хоть как-то одолеть омерзение, он какими-то потаенными изгибами души гордится умением вытачивать резцом из остывающего золотого слитка бычка Аписа: было такое, египтяне, почитающие Аписа священным быком, золотом платили ему за такую работу, которую он, чуждый их вере, делал стократ лучше их мастеров.
То-то будет радость его соплеменникам, вчерашним рабам, всю жизнь с похотливой завистью взиравшим на празднества притеснителей, на их пляски вокруг Аписа.
Как эти рабы всегда жаждали быть причащенными к их культу, к этой темной, клокочущей клоаке радости, срамной бездне, слепой, но в низменных вещах невероятно зрячей, к этому гоготу и топоту…
Притеснители отвергали их с презрением, которое они переносили несравнимо тяжелее, чем само рабство.
Теперь же души их исходят страхом в неохватном безмолвии пустыни, среди оголенных, как ножи дьявола, скал, в одиночестве и оставленности, которые более остро ощутимы именно в огромном человеческом скопище, бредущем, как стадо, за магическими звуками слов одного человека, которые, не успев слететь с его губ, забываются, как и он сам, канувший в облаке, покрывающем эту угрожающе черную, словно бы обуглившуюся гору.
По слухам знающих, следует ожидать наихудшего: Моисей не вернется, и придется им, кажется, на коленях ползти назад. А священный бычок Апис, быть может, и смягчит гнев фараона — так говорит явно его человек, с кошачьей походкой. Немало людей из табора связано с ним давними и прочными узами страха.
А пока суд да дело, веселись, душа, в этой кишащей бедами и несчастьями бездне небытия, пляши взахлеб, делай все, что бычок этот золотой, такой нетребовательный, на душу положит.
Стоит Аарон у сооруженного им жертвенника, смотрит на беснующееся скопище, обжирающееся, пьющее, поющее, слушает все эти байки, шепотки и вопли, заведомо зная, что теперь уже несомненно путь к спасению отрезан.
Оглядывается.
И вот — Моисей.
И замер огромный табор как в параличе. И очнулся, как оглушенный, в собственной мерзости и сраме. Отрешенно глядит, как призванные Йошуа верные его воины, которые охраняли табор, также не понимая, что за шум и вопли, уничтожают золотого бычка, растирают в пыль и по повелению Моисея смешивают её с водой. И пьет обреченно эту воду людское стадо.
Аарону знаком замораживающий взгляд брата, в этот миг совсем ледяной, вероятно, от слишком нечеловеческих высот и крушения столь же нечеловеческих надежд.
Странно называть это вратами стана — ведь по обе стороны их те же скалы и песок, — но вот Моисей встает в них.
О, этот непререкаемый тон вождя, так быстро усвоенный им:
— Кто со Всевышним — ко мне!
Вот и сыны колена Леви, не менее бравые воины, чем ребята Йошуа. В глазах за такое короткое время после выхода из страны Кемет уже поблескивает профессионально-убийственный огонек умельцев рубить с плеча.
Аарон не верит ушам своим, слыша Моисея:
— От врат до врат… Каждый — убивайте брата, ближнего, друга…
Жаркая, безветренная ночь. Дым от костров по всему табору впрямую поднимается к небу вместе с тихим рыданием.
Моисей подходит к Аарону, все так же недвижно сидящему у жертвенника и вперившему взгляд во мрак, пропахший дымом и начинающим усиливаться запахом мертвой человеческой плоти.
— Что тебе сделал этот народ, что ты ввел его в грех великий?
— Ты мне брат? — негромко спрашивает Аарон после долгого молчания.
— Ну… конечно, брат.
— Говоришь, я ввел их в грех. Вот и убей меня. Ты же повелел молодчикам нашим, которым раздавить человека проще, чем муху, убивать братьев. Пусть и завершат свое дело. Ты знаешь, я смерти не боюсь. Я и так после каждого отпевания одной ногой на том свете. Да, я знаю, до какой мерзости и буйства могут дойти эти люди, вчерашние рабы, но этого братоубийства я тебе никогда не прощу. И если я не угодил Ему, пусть изгладит мое имя из своих святцев. А теперь я хочу остаться один, завтра у меня тяжелый день: слишком многих придется хоронить. И не заходи ко мне в шатер. Неохладевшая свирепость твоего лица напугает и без того до смерти перепуганных Элишеву и детей, а твоя Сепфора с детьми, которая тоже там, сама вернется в твой шатер. Прощай.
4. Над бездной
В ту же долго длящуюся ночь ребята Йошуа переносят шатер Моисея подальше от стана.
Наказав Йошуа усиленно охранять его шатер, главным образом для того, чтобы тот за ним не увязался, Моисей поднимается на гору при слабом свете звезд, и тоска, непереносимая, исходящая от ржавых ребер скал вместе с росой безмолвия, увлажняющей бороду, волосы, глаза, гонит его ввысь, и он цепляется, ни разу не оскользнувшись, за жесткий дрок, за колючий терновник, незряче, как лунатик, ибо перед ним неотступным укором стоят глаза Аарона, в ушах гремит собственный, неузнаваемый им самим гнусаво-приказной голос, укоряющий, грозящий, а вокруг — потухшие, сотрясающиеся от страха, горя, ненависти лица.
Задыхаясь, присел на камень, отличаясь от него лишь тем, что тяжко дышит и чувствует подобную ему тяжесть под сердцем.
Сидит во тьме, наклонившись над краем неба, бездна которого прядает отвесно вниз к едва различимым пятнам костров и слабо доносящимся на эти высоты, как низовой ветер, голосам плакальщиц, чувствуя, как мягко опадают на него какие-то лепестки и странно усиливающийся приторно-терпкий запах затрудняет дыхание и в то же время несет забвение. Легче ли самого себя, размытого во тьме, пытать вопросами: кто он вообще, не слишком ли много взял на себя?
Очнувшись то ли от дремы, то ли от забытья, видит Моисей в едва сочащемся свете нового дня себя среди сада, призрачно проступающего легким, протянувшимся над ним до края скалы плоским фиолетовым облаком. Само пространство вокруг фиолетово, ибо земля под стволами да и сам Моисей покрыты слоем опавших фиолетовых цветов-колокольчиков. Лишь кое-где проглядывают малые островки зеленых, зубчатых, тонкой вырезки листьев, каждый зубец которых должен развернуться в цветок.