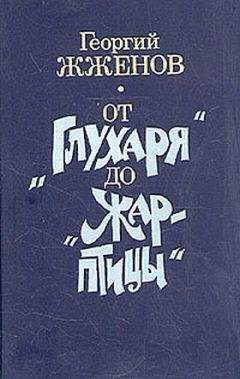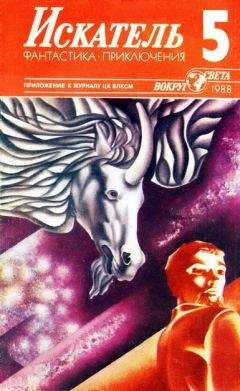Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
Ушёл и Ласло. Появление митрополита было настолько неожиданным, что он не сумел подсыпать яд в предназначенный ему сбитень. Брат Гийом уже сердится, что они столько времени живут при монастыре, а всё напрасно. Говорят, там, наверху, ругань идёт, и если бы не Дионисий, все давно согласились бы с тем, что предлагает отец Антонио. Эх, что ему стоило споткнуться, разбить кувшин и вернуться в поварню за новым? Там и подсыпал бы снадобье брата Гийома. Но не сообразил вовремя, не сообразил. Ласло сейчас испытывал два противоположных чувства: сожаление, что он не сумел использовать нечаянную возможность так, как они задумали, и радость от того, что отравление всё же не состоялось. Он стиснул зубы: прочь, дурные мысли! Он должен! Через страх и сомнения! Во имя ордена и Святого престола, во имя Господа нашего!
Царь назначил последний день, в который должна была состояться беседа с послами Григория Тринадцатого — одиннадцатое марта. Поссевино надеялся, что к этому времени брат Гийом и Ласло отправят этого склочного Дионисия на высший суд. Сам он, как и Стефан Дреноцкий, и Микеле Мориено, не мог сделать ничего. Их охраняли слишком хорошо, не давая ни малейшей возможности со-вершить даже один шаг без того, чтобы рядом не находился десяток стрельцов.
Вынужденное затворничество в монастырской богадельне деятельной натуре брата Гийома было чуждо, и он держался лишь потому, что десятилетиями вырабатывал у себя способность к длительному ожиданию перед последним, решающим броском. И сейчас было именно такое положение. Правда, от него не зависело ничего, и вся надежда была на Ласло. Юный венгр показал себя умным и решительным не по годам, и если до сих пор Дионисий остаётся живым — то потому, что не было никакой возможности отравить его незаметно. В этом брат Гийом был совершенно уверен. Но, наверно, отец Антонио уже весь извёлся в ожидании.
До коадъютора доходили разговоры о том, что происходит в Грановитой палате, и о том противодействии унии, которое оказывает митрополит. Его смерть была бы сейчас очень кстати. Может, стоит ещё раз встретиться с Ласло, чтобы подтолкнуть его к более решительным действиям? Нет, это лишнее. Мальчик и без того показал, что способен действовать самостоятельно. Что ж, остаётся только ждать…
Истоме приснилась бабка Барсучиха — впервые за всю жизнь. Старуха в тёмно-синем платке с белым узором по краю строго смотрела на него и укоризненно качала головой. Истома проснулся с ощущением, что он что-то сделал не так, как следовало. Он начал вспоминать — где же он оплошал? Андрей Щелкалов о нём в последнее время и не вспоминает — всё там, с посланником этим или с царём совещается. Не до Истомы ему. Тогда где? Перед мысленным взором всплыл заснеженный кремлёвский двор, Чудов монастырь, окно поварни с мутным неровным стеклом. И лицо, которое он прежде видел… Да — именно там, в таверне Любекского порта! Именно этот отрок позвал его на улицу, и если бы не Поплер…
Истома сел на кровати. Рядом заворочалась жена. Время раннее ещё — это лишь его пробудил тревожный сон и не позволяет больше заснуть. Может, он ошибается? Может, подождать немного, когда вновь приедут послы в Кремль для новой беседы? Нет, ждать не надо. Тогда бежать прямо сейчас? Тоже нет. Как рассветёт, так и отправится он в Чудов монастырь, и выяснит, чьё это странно знакомое лицо видел он в окне…
Ласло тоже проснулся в этот день рано. Хотя накануне он много работал, однако сейчас лежал, проспав лишь половину ночи, и не чувствовал ни сонливости, ни усталости. Он был уверен: сегодня всё и произойдёт. Что именно произойдёт — Ласло не знал. Или он отравит Дионисия и покинет Москву, или русские его разоблачат и замучают на дыбе. А может, ещё что-то. Откуда у него взялась уверенность в предстоящем событии — он не понимал, но был убеждён, что обязательно произойдёт нечто значительное. А поэтому ему следует быть наготове. И предупредить брата Гийома, что им сегодня надо будет бежать из Кремля и из Москвы.
Ласло встал и направился в поварню. Там уже разжигали печи, готовили гречку и полбу для каш. Суетились поварята, таская с улицы дрова и воду.
— Чего соскочил ни свет ни заря? — хмуро буркнул старший повар. — Тебе сегодня только к обеду выходить.
— Да к деду я! — махнул Ласло рукой. — Надо ж старика добрым куском побаловать.
— Молодец, Ивашка! — похвалил его повар. — Близких забывать нельзя. Вот, возьми.
Он указал Ласло оставшийся с вечера котёл с остатками толокна, обильно сдобренного маслом:
— Набери в миску, отнеси старику. Только миску не забудь обратно захватить.
Ласло послушно набрал в глиняную миску каши, стараясь зачерпнуть, где пожирнее, сунул в неё деревянную ложку и выбежал из поварни. Он думал — как бы ему незаметно для прочих обитателей богадельни разбудить брата Гийома и поведать ему о своих мыслях. А то ведь увидят — начнут интересоваться — чего это припёрся в такую рань? Объясняй им…
Но Ласло опасался расспросов напрасно. Старый иезуит уже проснулся и вышел на улицу — якобы до ветру. На деле же его тоже охватило некое предчувствие. Здесь он и встретил своего юного товарища. Приняв у него из рук миску, принялся есть, слушая, как Ласло объясняет ему, почему надо быть готовыми к бегству. Неторопливо доев кашу, коадъютор произнёс:
— Русские говорят: чуйка — это когда Бог хотел вразумить в голос, да решил немного погодить. И ещё: если двое думают одинаково, то они, скорее всего, правы. Я думаю так же, как и ты. И чуйка говорит мне то же, что и тебе.
— Брат Гийом, когда нам уходить?
Коадъютор задумался:
— Дионисий бывает в Чудовом монастыре чуть не каждый день. Дождёшься его сегодня — делай своё дело. Изловчись, извернись, но сделай. И беги, пока не схватили.
— А если его не будет?
— Если в обед не будет — уходи. Если опасность почуешь — уходи.
— Я её уже чую.
— Приказ отца Антонио должен быть выполнен.
— А ты где будешь, брат Гийом?
— Я уйду сегодня, сейчас. После обеда доберусь до той деревни, где мы жили, когда я болел. Жду тебя там. И помни…
Коадъютор замолчал, о чём-то думая.
— Что помнить, брат Гийом?
— Все должны думать, что ты уходишь из Москвы на юг или восток.
— Чтобы нас не ловили на той дороге, где мы будем в действительности?
— Верно. А теперь я ухожу. Ты же собери всё, что есть, чтобы тебя не застали врасплох. И помни, Ласло. Приказ отца Антонио должен быть выполнен. Ступай к себе. Я буду ждать тебя в той деревне три дня…
Рано проснулся и митрополит Дионисий, заночевавший в Чудовом монастыре. Он хотел наутро, едва царь проснётся, обратиться к нему, чтобы постараться убедить в пагубности тех предложений, что делает Русской церкви проклятый латинянин. Неужели государь сам не понимает, чем может обернуться для православия принятие унии? Греки вон — приняли, и хоть и отказались спустя несколько лет, но держава их рухнула и не воспрянет больше, потому как турки сильны, очень сильны. Наказал Господь греков за то, что изменили святой вере.
Не спалось с утра и царю русскому, великому князю московскому и всея Руси Ивану Васильевичу. Словно шилом в бок кольнуло — проснулся он и лежал, думая о посольстве папском. Вспомнился год, когда после бегства Генриха Валуа выбирали поляки себе короля. Хотя Ян Замойский тогда объявил, что иноземца на престоле Речи Посполитой быть не должно, выбрали Семиградского князя Стефана Батория, даже польского языка не знающего, которого женили на старой Анне Ягеллонке — знатной, родовитой, в предках у которой — князья из славных Гедиминовичей. А ведь тогда, во время бескоролевья, литовская православная шляхта предлагала на польский престол и его, Ивана Васильевича. Но не согласились магнаты, испугались схизматика. А что, если б он католиком тогда был? Взял бы под свою руку и Русское царство, и Речь Посполитую — это ж такая силища получилась бы! И воевать не надо — Ливония сама бы на поклон пошла. А шведьг тогда не посмели бы и носа показать из своих владений!
Иван Васильевич, размечтавшись, сел на ложе, запалил свечу. И всего-то семь лет прошло с того выбора, а как всё изменилось! А может, не поздно ещё всё повернуть — если не вспять, то… Послушаться папского посланника, разрешить на Руси католические храмы, коллегии их эти окаянные? А если попы недовольны будут — не впервой. Филька вон тоже недоволен был. Вместо Дионисия поставить Давидку Ростовского — пусть радуется!