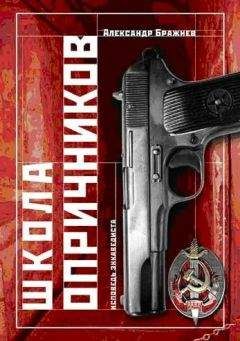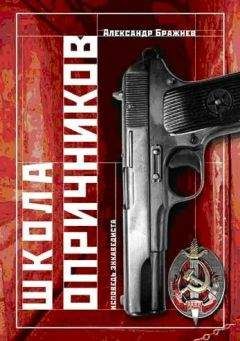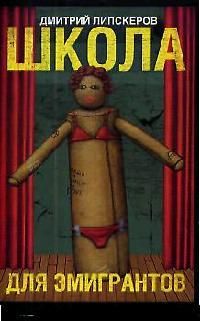Тулепберген Каипбергенов - Неприкаянные
Решив так, оседлал коня Маман и поехал к казахам. Он и до того намеревался вместе с Мыржыком поклониться соседям, рассказать о своих бедах. Но Мыржык хоронил тестя, и теперь ехать надо было одному. Может, это и к лучшему было. Мог молодой бий горячностью своей насторожить соседей, а к чему настороженность в таком деле? Здесь спокойствие нужно, доверительность и доброта.
Далеко в степь казахскую не стал забираться Маман. Жил за Жанадарьей Седет-керей — известный бий Малого жуза, старейшина рода, к нему и свернул Маман. Невелик был ростом казахский бий, по пояс Маману всего лишь, лицом — дитя, сединой — старик. Да Ата-бий, как называли главу рода казахи, и был стариком. Годы свои не считал, но набежало их, наверное, около ста. Прежде, в молодости, высоким и сильным был бий, время высушило его, рост поубавило, но не поубавило время мудрости, памяти не отняло. Умнейшим считался в казахской степи Ата-бий. А ум не бесценное ли богатство, не россыпь ли золотая? За зернышками золотыми и приходили к Ата-бию степняки.
Старик встретил Мамана как друга. А другу откажешь ли в помощи? Подумав, решил Ата-бий:
— Поедем, Маман, к вашему Айдосу. Разбудим словом доброту его сердца. Братство не в доброте ли?
Усадили старика на одногорбого верблюда.
Сын Ата-бия, Айтуган-батыр, оседлал чалого скакуна, крупного, сильного, другой бы не понес пятипудово-го джигита, взял за повод верблюда.
— Маман, — сказал Ата-бий, — ты знаешь, где стоит Айдос-када, показывай дорогу. И не ошибись.
Когда-то Ата-бий видел на празднестве Айдоса, молодого, красивого, могучего. Как молодой турангиль, расправивший ветви, поднимался ввысь сын Султан-гельды. И светлую дорогу нарек ему казахский бий. Великую дорогу.
«Споткнулся, что ли, Айдос или свернул с верного пути? — думал Ата-бий, покачиваясь на своем одногорбом верблюде. — А если свернул, заметил ли ошибку? Понял ли, что идет не той тропой, что прежде?»
Издали и трудное кажется легким, черное в дымке дня светлеет. К простому подготовил себя Ата-бий. А когда приблизился, не увидел простого, увидел сложное. Черное увидел вместо светлого.
Стена окружала Айдос-калу. По стене ходили нукеры, сверкали на солнце их мечи.
Остановил своего скакуна Айтуган-батыр. За скакуном остановился и одногорбый верблюд.
— В город нас не пустят, — сказал Маман. — Нукеры стреляют во всякого, идущего к воротам.
— Мы не воины, мы идем с миром, — ответил Ата-бий. Он вынул из- за пазухи два белых платка и подал их Маману и Айтуган-батыру. — Поднимите выше, пусть видят нукеры доброту наших намерений.
Белый цвет испокон веков служил людям защитой. Послужил защитой и сейчас. Не вспыхнул огонь, не раздались выстрелы на городской стене, хотя нукеры и держали ружья наготове и приказано им было не подпускать чужих менее чем на сто шагов.
Навстречу казахскому бию выехали из ворот два всадника.
— Кто вы и что вам нужно? — спросил первый всадник, приблизившись к путникам. Это был Доспан, и узнал он Мамана! Но, по правилам войны, не должен был признаться в этом.
Маман-бий обиделся и сказал недовольно:
— Сынок, открой глаза, если не можешь открыть сердце. Мы доброжелатели бия твоего, и имя наше ему известно.
Смутился Доспан. Верно ведь, известно имя «русского бия», и глупо прикидываться слепым и беспамятным.
— Бий-ага, я знаю вас, — стал оправдываться стремянный. — Знаю и за честь считаю говорить с вами. Но Мухамеджан-бек вас не знает, и ему вы должны дать ответ!
— Нам не нужен твой Мухамеджан-бек! — бросил со своего верблюда старик. — Нам нужен Айдос, старший бий каракалпаков. С ним хочет говорить отец — бий казахов, — добавил Маман.
Доспан повернул коня и поскакал в аул, именуемый теперь городом. Второй всадник остался стеречь путников.
Немного времени требовалось на то, чтобы доскакать Доспану до юрты Айдоса, передать ему просьбу казахского бия и вместе со старшим бием вернуться назад. Тропа-то с версту, не больше, хороший конь одолеет ее за мгновение. А ждали гости час целый. Успел за это время Ата-бий два раза уснуть и два раза проснуться, Маман-бий — переседлать коня своего, а Айтуган-батыр — накормить верблюда и сам поесть. На дастархан в Айдос-кале он не рассчитывал. Да и можно ли было рассчитывать на дастархан, когда и в город-то путников не хотели пускать.
Переседлывая коня, Маман подумал, что нелегко, видно, старшему бию выйти из собственной юрты. Держит его хивинский бек в городе, как вола в загоне, без пастуха на волю не выпускает, а если и выпустит одного, то только на длинном аркане.
Наконец Айдос и Доспан выехали за стены города. К казахскому бию, однако, близко не подъехали. В десяти шагах от бия остановил своего коня Айдос и произнес приветствие, принятое у степняков:
— Салом алейкум, отец!
— Ваалейкум ассалом, сынок! — ответил бий. Если б не видел Айдос, как открывается рот старика, не поверил бы, что это им произнесены слова, — так громко и так бодро они прозвучали. Велик бог, вложивший могучую силу в крошечное существо, похожее на дитя, убеленное сединами.
— С чем пожаловали, отец? — спросил Айдос казахского бия. К Маману и Айтуган-батыру не повернул головы, будто их не было и кони их не стояли на земле Айдоса.
— Пожаловали с намерением узнать, нужна ли наша помощь старшему бию каракалпаков, — ответил Ата-бий. — Время-то неспокойное, злые ветры летят над степью.
Посмотрел на старика Айдос, посмотрел на Мамана и Айтугана: что замыслили, чью стрелу несут в колчане?
— Ведомо ли отцу-бию, какие ветры летят на Айдос-калу? — спросил Айдос.
— С Кок-Узяка, сын мой. Брат твой Бегис поднял меч вражды и ненависти.
— Не ветер это, отец, ветерок. Ветер истинный летит из Кунграда, из змеиного логова.
— Из Кунграда?! — засомневался старик. — Шепчут степные тропы: запахнуты ворота Кунграда, укрылся за ними суфи и молитву предпочел войне.
Слышал этот шепот Айдос, доносили ему лазутчики, что ушел из камышей Туремурат-суфи, да не поверил старший бий.
— Если и ушел, если и укрылся за стенами Кунграда, — рассудил Айдос, — то не ради молитвы. Не может суфи молитву предпочесть войне. Война — молитва Туремурата-суфи. Бог-то его — коварство.
Старичок на одногорбом верблюде оценил мудрость Айдоса: далеко видел старший бий каракалпаков.
— В твоих словах истина, сын мой. Но и то истина, что Айдос-кале угрожают мечи Бегиса. Суфи далеко, Бегис близко, и мечи ваши скрещены. Разведите их, опустите руки — мир и тишина наступят в степи.
Погрустнел Айдос. Невозможного требовал казахский бий. Хотел развязать один узел, а узлов была тысяча.
— Не наши мечи в наших руках, отец, — сказал старший бий. — Бросим их — поднимут другие.
— Поднимут не поднимут, кто знает… Ты все же брось, сын мой. Смирение угодно богу.
Старичок уже не требовал, просил. И голос его стал тихим и душевным. Должен был откликнуться на него Айдос. Тишина кому не дорога! А не откликнулся.
— Бросить чужой меч, отец, — предать того, кто дал его тебе! — воскликнул Айдос. — Достойно ли это степняка? Достойно ли это бия? Сына, предавшего отца, изгоняют из аула. Где преклоню я голову, изгнанный с родной земли, отец?
Поразился старичок. Узел-то не развязывался. Попробовал разрубить его:
— За Жанадарьей преклонишь голову, сын мой. Там братья твои, степняки.
Зря замахнулся Ата-бий. Разрубить не разрубил узел, а Айдоса ранил. Сердце его закричало от боли.
— На чужой земле?! — От гнева готов был сбросить с верблюда старика Айдос. — Не помочь мне пришли вы, а погубить меня! Дело мое великое похоронить у этого холма! Побойтесь всевышнего, отец! — крикнул он.
Не пуглив был старик. Что пугаться в сто лет, когда на небе уже видишь себя. Но гневный крик Айдоса напугал его. Напугал и Маман-бия, и богатыря Айтугана, и верблюда одногорбого напугал. Тот, не ожидая понукания, повернул прочь от Айдос-калы и зашагал торопливо в степь. Кони пошли следом.
— Нет, нет, не угасишь пламени, — сказал старик. — На пепле только стихнет оно. А пепел — это смерть.
42
Отнесли к степному кургану тело Есенгельды, положили в землю, насыпали холмик, придавили камнем. Не стало еще одного бия. Ушел в иной мир давний недруг Айдоса. И зло должно было уйти вместе с ним. А не ушло. Осталось зло в ауле вероломного Есенгельды. Упало, как зерно джугары, в землю, проросло и стало набирать силу.
Не все дети наследуют нрав отца, не к каждому переходит частица души его. Кумар ничего не взяла вроде бы от родителя, а сын же, Елгельды, повторил отца. Не во всем, правда, все перенять невозможно, слишком большим был хурджун грехов Есенгельды. Но кое-что малое пришлось ему впору. И главным в этом малом оказалось тщеславие. Юный Елгельды возмечтал стать, как и отец, мехремом — советником хана. Ханский двор манил его, и, слушая рассказы отца о пиршествах, приемах знатных гостей во дворце, он мысленно уже видел себя, нарядно одетого, в свите правителя. Отцовский халат не раз оказывался на узких плечах юного Елгельды. Чем старше он становился, тем чаще превращался в придворного. И игра эта не надоедала юноше. Она была его любимой игрой.