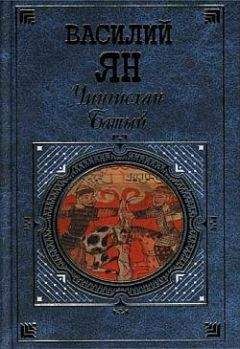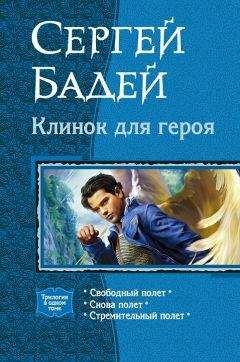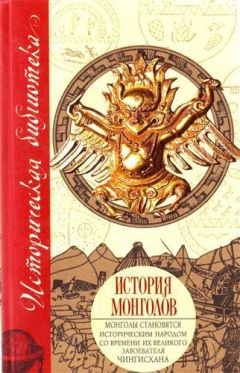Олег Широкий - Полет на спине дракона
Как тут ни выкручивайся, но рано или поздно настанет миг, когда каждый из тех, для кого именно он — не кто-нибудь — природный хан, должен будет для себя решать: воевать за своего хана или с облегчением отдать его на расправу?
Нужны были воины и советники, преданные лично ЕМУ, а не (ох, сколь там всего скопилось уже на иной чаше весов) Ясе, несторинам, «белоголовым», верховному кагану живущему и Верховному Кагану Воспарившему, совести, долгу своему роду-обоху. Случись что не так, все эти важные, святые для многих вещи опутают, как верёвки.
Всему этому он мог противопоставить только верность, а если эту верность не скрестить с выгодой, она рухнет.
Бату должен был создать именно из таких людей гибкий и верный костяк, и это его последняя надежда. Но — видит Небо — таких людей ещё так мало.
Кроме того, нужно было обязательно добиться невозможного: чтобы большинство уроженцев тех земель, куда ступили кони-хулэги, воспринимали его не как покорителя, но как — спасителя или, по крайней мере, как союзника против более важных своих врагов. А коли так, то кроме искренних друзей Бату ещё нужны те, кому выгодно, чтобы их угнетатели сменились.
С Рязанью такого не получилось. Хорошо это или плохо? Может, оно и к лучшему. Уж если кого нужно скормить, чтобы помириться с остальными, наверное, лучше Рязани не найти? Суздальцы её недолюбливают за то, что она только наполовину выкурила и развеяла сторонников Чернигова. Черниговцы за то, что она всё-таки наполовину их выкурила.
Ограбление взятого города, когда берут его тёплым, шевелящимся и визжащим (без скучного отчаяния обречённости на лицах будущих боголов), отличается от планомерного так же, как покорная сникшая наложница от той, которая ещё не успела растерять свободного человечьего стыда, та, у которой щёки ещё горят роскошным вкусным гневом на посягателя. Как отличается тёплое, ещё живое мясо от разогретого. Как отличается истребление лосей и сайгаков в загоне от тусклого забоя овец для нужд войска.
Воин, врывающийся в чужой дом, хочет приятной неожиданности, а не того, что потом достанется ему как ожидаемая подачка.
Бату хотел, чтобы состоялся долгожданный победный пир, но, кроме того, нужно было не загонять в дальний угол капризную мстительную справедливость. А для этого постараться, чтобы получили по заслугам отличившиеся в деле боевые отряды, а не те, кто рад поживиться, пока передовые алгинчи расправляются с последними очагами сопротивления.
Посовещавшись со своими ближними нойонами, он распределил очерёдность поживы между тысячами так, чтобы не забыты были их заслуги не только при взятии Рязани, но и под Пронском.
Нельзя было обойти вниманием и наградой те отдельные сотни, которые рыскали по окрестным сёлам, сгоняя хашар и добывая корма для отощавших лошадей. Этим сотням как раз и пришлось тяжелее остальных.
Наиболее отличившиеся устремлялись в замерший в ужасе город, пребывали в нём какое-то время, после чего уступали место следующим. И так далее.
Рискнув рассориться с хранителями, Бату изменил одно важное правило. Обычно ту часть добычи, которая предназначалась для отправки в Каракорум, отбирали особо приставленные для этого дела людьми. Выглядело это так: каждый воин должен был всё без утайки предъявить кешиктенам, которые сами, по своему усмотрению, отбирали себе как будто бы «четвертую часть», а на самом деле — сколько им заблагорассудится.
Спорить с гвардией никому в голову не приходило — себе дороже. Кроме того, «святая добыча» — это не деньги, не одинаковые серебряные слитки, которые можно разделить по закону. А тут разве отделить ровнёхонько четвертую часть, ведь чего только в этой куче не встречается: от драгоценного оружия и столешниц до кусков бухарских тканей зиндани и сорванных с дрожащего плеча шуб и отрезанных вместе с ушами дорогих серёг. К этому прилагались и девушки, и аргамаки, и перепуганные кречеты. Попробуй-ка узнай всему этому истинную цену... Поэтому всё и получалось легко. Пользуясь тем, что за укрывательство добычи полагалась смертная казнь, сборщики просто забирали у воинов всё самое ценное, и, само собой, не четверть, а добрые три четверти, это если повезёт.
Бату помолился Небу и положился на удачу. Конечно, последуют доносы (как без них), но пока с ними разберутся, много воды утечёт.
Он помолился и, пользуясь тем, что в походе даже «стервятники» обязаны ему подчиняться (кляузничать будут потом), безжалостно изменил порядок распределения добычи.
Теперь каждая сотня отвозила четверть взятого в городе в отведённое место, но... по своему усмотрению. Правда, во избежание воя, Бату всё-таки установил то количество, меньше которого дать нельзя. Если у кого не было и этого — сотня должна была покрыть его убытки.
Раньше открывалось широкое поле для злоупотреблений сборщиков, а теперь любые сомнительные случаи расчёта решались в пользу самих воинов.
Бату прекрасно понимал, что даже самый тупой и ленивый не отдал сборщикам настоящую четверть награбленного, но именно этого-то как раз и добивался. Благодаря этому отчаянному выверту он попал сразу в две важных для себя мишени. Ведь это был прекрасный задел на будущее.
Каждый его нухур, каждый джангун — особенно из новых, из кыпчаков — конечно же, прибарахлился в свою пользу, тем самым стал соучастником маленького бунта против верховной власти. Кроме того, они неизбежно сравнивали новый указ с прежним, и сравнение было явно в пользу нового. Если хранители надумают перетряхивать их котомки, это вызовет недовольство и сплотит их всех вокруг джихангира. Сплотит как раз против тех, кого надо.
Вырезать в городе всех подряд Бату приказа не давал. Ему было важно, чтобы уцелевшие рязанцы поняли, что бывает и хуже. Ко всем остальным невзгодам не хватало ещё и отчаянного сопротивления «обречённых»: нет ничего хуже слухов о беспросветной беспощадности.
Плодить загнанных в угол крыс ему вовсе не хотелось. Важно, чтобы враг думал, что может решить дело миром в любой миг. Даже после ожесточённой грызни.
Прямого приказа не хватать пленных он, конечно же, позволить себе не мог, но мог сделать так, чтобы количество сбежавших было немалым. Так и получилось: кто попался — того скупали купцы. Кто убежал, значит, так тому и быть.
Впрочем, воеводу и его ближайших подручных он всё-таки приказал казнить...
Бату смотрел сквозь растопыренные пальцы на то, как кольцо облавы — столь прочное, когда сопротивление ещё не окончилось, — вдруг разорвалось в нескольких местах.
С привычным для таких воспоминаний ехидством он, конечно же, вспомнил, что юный Темуджин в том самом первом своём сражении с меркитами тоже проявил великодушие. Тоже не преследовал бегущих в лесах. Избивать всех подряд он пристрастился гораздо позже.
Назначенные Бату люди, из тех немногих, кому он безоглядно доверял, позаботились о том, чтобы было кому бежать и куда.
Тем, кто уж очень был подобным озабочен, Бату позволил принести в жертву своим предкам некоторых рязанских девушек. Любовь к родичам — это святое. Не обошлось и без того, что вызывало особую неприязнь: джурджени из тех тысяч, что обслуживали осадные орудия, так пристрастились гадать на «живых внутренностях», что успели вспороть животы доброй сотне рязанцев прежде, чем он наконец взбесился и строго-настрого запретил подобное. Это вызвало было глухой ропот, но тут помог не переносящий джурдженей Субэдэй. С некоторой ревностью джихангир убедился — если тот берётся за дело, всякое нежелательное брожение сразу же замирает. Что бы он всё-таки делал без старика? Страшно подумать.
Перед тем как предать город огню, хан проехался по его улицам...
Похоронщики сносили погибших монголов к погребальному костру. Оказалось, что горожан посекли немало... При грабеже никогда не удаётся избежать резни. Многие запирались в здешних деревянных домах Бога и сжигали себя изнутри — Бату этому не препятствовал. У каждого народа свои отношения с богами. Здесь такие. Лезть во всё это было бы просто оскорблением. Тела местных не сжигали — вернутся беженцы и позаботятся о них. Но уцелевшим из хашара Бату всё-таки позволил похоронить своих павших по здешнему обычаю. Согнанные с разных мест они с видимой неохотой взялись за дело. Благодарности за эту милость джихангир в их глазах не заметил.
Сам он радости от этой победы тоже не ощутил — на душе было пасмурно и грустно.
Но воины, кажется, насытились и были довольны.
Бату и Боэмунд. 1237 год
Наконец появился Бамут, живой. Это обрадовало. После этого Бату нашёл в себе силы обрадоваться и из-за Рязани. Отдохнуть и насладиться победой было просто необходимо.