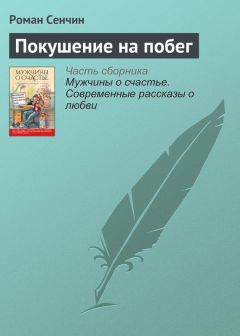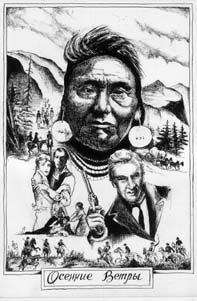Юлия Глезарова - Мятежники
Семейство уже заканчивало завтракать, когда лакей доложил о приезде князя Трубецкого.
– Князь, вы? В такой час? Чему обязан столь раннему визиту? – засуетился Иван Матвеевич, отметив, что Трубецкой выглядит дурно. От природы смуглое лицо князя было почти серым, румянец на скулах – чересчур ярким, а кончик длинного носа – почти белым, что выдавало необычайное волнение. Впрочем, в последние дни многие жители Петербурга выглядели не лучше – неопределенность власти порождало смуту в умах и сердцах.
– Прошу извинить меня за столь ранний визит, дело спешное. У меня письмо срочное… в Киев. Хочу воспользоваться оказией, передать его с сыном вашим… Ипполит, позволь, на два слова…
Полковник отвел молодого человека в сторону – Иван Матвеевич увидел, как он передал сыну запечатанный конверт.
– Сие письмо, – сказал Трубецкой Ипполиту, – ты должен передать брату своему Сергею. Оно весьма важно… От успеха твоего предприятия зависит не только моя жизнь. Судьба брата твоего в твоих руках…
– Не беспокойтесь, князь, я выполню все, о чем вы просили.
– Главное – не задерживайся нигде. Времени мало…
– Я сделаю все, что в моих силах, князь! – Ипполит браво щелкнул каблуками, отвесил поклон и спрятал письмо в карман. Важное поручение князя подействовало на него, как глоток шампанского – глаза засверкали, кровь забурлила.
– Лошади поданы, – доложил лакей.
Сенатор приложил к слезящемуся глазу батистовый платочек, обнял сына, облобызал его в обе щеки – чуть ли не первый раз в жизни. И передал его в объятия сестры Кати – тридцатилетней красавицы с копной рыжих волос, заплетенных в косу. Сестра не плакала, но лицо ее было грустно. Она тоже обняла молодого человека и погладила по голове:
– Как быстро ты вырос… Езжай, братец, и не забывай нас. Пиши как можно чаще. Помни, что я за тебя тревожусь… Да, я велела тебе в чемодан положить – конфеты, те самые, как ты любишь…
Молодой человек кивнул, стараясь не заплакать. Забота сестры растрогала его куда больше, чем наставления папеньки.
– Прощай, Катя…
Сестра, всхлипнув, перекрестила его.
Нервное и сосредоточенное лицо Трубецкого маячило за ее круглым теплым плечом. Полковник крепко пожал руку Ипполиту.
– Помни, – сказал он тихо, чтобы никто не слышал. – Не задерживайся нигде. Времени мало.
– Ну, где же ты? Поехали!
Попутчик Ипполита – кавалергардский корнет Пьер – с нетерпением выглядывал из кибитки. Лошади переступали копытами по рыжему снегу, налетевший с Невы ветер был пронзительно холоден и свеж.
– Я готов! Едем!
Ипполит, последний раз поцеловав сестру, сел в кибитку.
– Трогай! – закричал он кучеру. – Пошел быстрее!
Тройка лошадей бодро двинулась с места. Молодой человек, высунув голову из кибитки, смотрел на родительский дом, пока он не скрылся за поворотом. Странное чувство овладело им: показалось, что он видит все это в последний раз. Однако предчувствие сие не было ни грозным, ни страшным: напротив, оно словно бы прибавило света хмурому петербургскому утру, заставив Ипполита увидеть в знакомых улицах и набережных нечто, чего он не замечал раннее.
– Согласись, Ипполит, – сказал Пьер, когда они миновали заставу. – Все-таки хорошо одному путешествовать. Куда хотим, туда и поедем. Москва – город веселый, гостеприимный. Хочешь – на бал, хочешь – к девочкам. А хочешь еще куда-нибудь. И, заметь, никто ничего не скажет.
Кавалергардский корнет Петр Николаевич Свистунов был старше на три года и считал себя взрослым и опытным человеком. Ипполиту он покровительствовал.
– Да… хорошо! – отвечал Ипполит улыбаясь. – Но только не могу я в Москву. Дело важное у меня. Не могу.
– Да брось ты, ей-богу! Что значит «не могу»? Вот в Москву приедем – отдохнем! Ты разве права отдохнуть не имеешь?
– Не могу. Письмо у меня к брату. Срочное, от Трубецкого. Нельзя мне в Москву. Доберемся вот до нее вместе – и я дальше поскачу.
Ехали медленно: стояла теплая и сырая погода, дорогу развезло и лошади тонули в грязи. На второй день приехали в Тверь.
– О вольность, вольность, дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел, – весело продекламировал Пьер, дразня Ипполита. – Пошли обедать, карбонарий!
За трактирным обедом, тема вольности продолжилась:
– Я ж разве не понимаю чего? Я же тоже – за общее дело. За крестьян, за солдат я горой. Ты же знаешь. Тебя вот когда в общество приняли? Полгода, наверное, как? Да и тех нету… А я почитай четыре года уже в заговоре. Вольность дело святое. И благодарность отечества заслужить хочется. Но и заговорщику отдохнуть надобно. Мы же молоды с тобой. Вон Трубецкой погулял, небось, в свое время, повоевал, теперь есть что вспомнить. Как, ты уж прости меня, и брату твоему. Самое время им тайные письма писать и революции делать. А тебе есть что вспомнить?
– Мне? – Ипполит грустно задумался. – Училище вот только.
– Училище, эка невидаль! Кто из нас не учился? Я так вот даже в Пажеском корпусе, и тоже вспомнить нечего. Скука одна и немецкие глаголы в придачу. А ты говоришь – в Москву не поеду. Как же можно не ехать?
– Не могу, письмо у меня. На один день только разве…
Ипполит любил Москву, в детстве он подолгу жил здесь. Особенно хороша была Первопрестольная зимой: белый снег на низких крышах московских домов, румяные лица крепостных девок, катание на санях по Москве-реке. Еще Ипполит помнил, как болел в Москве золотухой. Рядом были братья, Сережа и Матвей. Они лечили его, купали в соленой воде, давали микстуру и мазали какой-то вонючей мазью. И доктор в круглых очках смешно цокал языком, ощупывая его шею.
Ипполиту вдруг очень захотелось в Москву. «Ведь всего на один день, – уговаривал он себя. – Вот взгляну на дом наш – и уеду. Сразу уеду. Может, и дня не пробуду. Я в чертову глушь еду, когда еще вернусь сюда? Только на один день, клянусь честью. И потом – ведь я взрослый. Почему Трубецкой должен мною распоряжаться, когда даже папенька не приказывал в Москву не ехать? Я потом нагоню, быстро поеду».
– Вот и молодец, – сказал Пьер, когда они вечером 17 декабря миновали Петровскую заставу, – теперь я вижу, что ты взрослый, а не молокосос какой-нибудь.
По приезде друзья остановились в самой дорогой московской гостинице. Едва передохнув с дороги, отправились с визитом к бабушке Пьера, коренной москвичке, всю жизнь прожившей в Охотном ряду.
– Нельзя не пойти, – говорил Пьер по дороге, – бабушка узнает, что я приехал и еще не был у нее, и обидится. Ведь ты же не хочешь, чтобы бабушка на меня обижалась?
– Не хочу, – признался Ипполит. – Зачем огорчать бабушку?
Два дня пролетели незаметно. Родственники и знакомые Пьера оказались сплошь милыми и хлебосольными людьми. Ипполит ни на минуту не оставался один. На третий день, с утра, пока Пьер еще спал, Ипполит поехал к Никитским воротам, к дому тетушки Екатерины Федоровны. Старый дом, который в детстве казался ему таким большим, оказался вовсе маленьким. Подойдя к дому, Ипполит зажмурился: ему показалось, что сейчас дверь откроется и на крыльцо выйдет маменька. Но на крыльцо никто не вышел.
Ипполит подошел к забору. За забором был – он точно помнил – маленький сад. В саду росла старая яблоня, под которой он, едва научившись читать, часами просиживал с книгами. В детстве ему казалось, что эта яблоня – самое большое и самое красивое дерево в мире. «Только одним глазом посмотрю на нее – и уйду», – подумал он, открывая калитку. Яблоня стояла на прежнем месте, большая и красивая, запорошенная снегом.
Потом Ипполит долго еще гулял по московским улицам, вспоминая детство; в гостиницу вернулся продрогший и усталый. Пьер ждал его в гостиничном номере.
– Я в саду нашем был, дом наш видел, – сказал Ипполит, переступая порог. – И знаешь, я подумал…
– Плевать мне, что ты подумал. Где письмо? – грубо перебил его Пьер. Тут только Ипполит заметил, что его друг был явно не в себе.
– Какое письмо?
– То, что Трубецкой тебе дал перед отъездом.
Ипполит покраснел: все три московских дня он не вспоминал о письме.
– У меня. А на что оно тебе?
– Сжечь его надобно. Немедля.
– Сжечь? Но зачем? Оно для брата, и я не могу…
– Черт тебя побери, вместе с твоими родственниками! Я погибну через тебя! И зачем я только взял тебя в Москву?
– Да что случилось-то, Пьер? Объясни, будь любезен.
– Изволь. Вот, читай.
Пьер бросил на стол газету. Ипполит читал и не верил глазам: в Питере был бунт, полки вышли из повиновения, отказались присягать, по ним палили картечью. В глазах у него потемнело.
– И еще говорят, – Пьер понизил голос, – что зачинщик всего этого – Трубецкой. Что на площадь он не явился, но все равно арестован и посажен в крепость. И что многих убили из черни и солдат. Отдай письмо, дурак! Ежели его найдут у нас – мы пропали.
Ипполиту показалось, что еще немного – и Пьер заплачет.