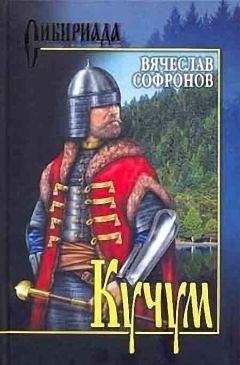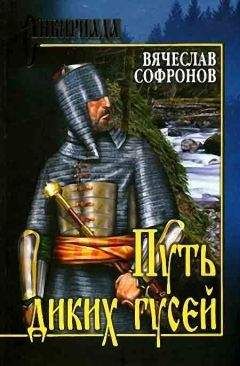Борис Дедюхин - Василий I. Книга 2
— Как это?
— Что за притча?
Старейший княжеский боярин продолжал.
— У великого князя московского Василия Дмитриевича ярлык на Нижегородское княжество, а что даден он не шутейно, не так, как Борису Константиновичу давался, и прислан царевич Улан с ханской дружиной.
— Лошадей можно вернуть, татей наказать, — возражал Никифор. — А кроме лошадей, есть у нас немало и другого добра, его. надо хранить. Это ты, как Блуд, чужому князю добра хочешь, а своего предаешь[100].
Снова поднялся гвалт. Борис Константинович несколько приободрился. Никифор Балахнин владел соляными колодцами неподалеку от Городца, варил соли больше, чем требовалось нижегородскому населению, и был заинтересован в широкой торговле То, что он принял сторону Бориса Константиновича, было неожиданно для всех. Слово его было очень веским и предоставляло великому князю хорошую лазейку, он объявил:
— Нет у нас единоустия!
Вече озадаченно смолкло. Борис Константинович хорошо понимал, что молчание это кратковременно. Издревле велось на Руси так, чтобы решение на вече принималось едиными устами В случае разномыслия вече надо было либо продолжить (случалось, с утра до потух-зари на протяжении целой седмицы спорили), либо искать истину, отбросив мирные средства, в рукопашной борьбе — пусть это будет кровавое и неединое, однако господствующее суждение, имеющее силу закона. Но ни один из этих проторенных путей сейчас, когда решение надо было выработать немедленно, не был приемлем для Бориса Константиновича, и он нашел третий.
— Злых врагов земли Русской безбожных татар в кремль не допустим, а с князем московским будем братский совет держать! — объявил он толпе, которая нашла слова его вполне разумными и приветствовала сдержанным гулом одобрения. — А ты, Румянец, иди к Василию Дмитриевичу, скажи, что великий князь нижегородский ждет его на очи.
Василий Румянцев ухмыльнулся в бороду и проворно соскочил с помоста, желая показать этим, что преисполнен рвения стремглав исполнить приказание, однако сам Борис Константинович расценил это иначе, и расценил правильно: изобразив такую неотложную спешку, Румянцев как бы забыл приложиться к руке великого князя: ведь быть у государевой руки — значит, иметь честь эту руку облобызать при встрече и при прощании. И обычно после всяких сборов и собраний бояре шли строем, един за единым, и если не падали ниц и не били лбом об пол, то непременно припадали на одно колено и прикладывались к руке Бориса Константиновича. Это не было проявлением рабской зависимости или выражением страха — это просто принятая и утвержденная веками форма отношений старшего с младшим. А вот сейчас, пользуясь возникшей суматохой, мало кто из бояр принял отеческую милость, лишь Никифор да несколько молоденьких бояр воспользовались разрешением приложиться к руке великого князя. Понимая, что будет за благо скрыть явный бунт, Борис Константинович сделал вид, будто и сам шибко торопится, будто небрежен он сам со своими подданными. Уходя, он изобразил на лице подобие улыбки, хотя сердце его клокотало от гнева и бессилия.
2Киприан со своей свитой получил подворье в Печерском монастыре, что лежал по другую сторону кремля на полугоре волжского берега. Сам приезд митрополита вместе с великим князем как бы показывал, что вражды быть не должно, что поход этот не военный, но поход судей на провинившихся для восстановления попранной справедливости. Так себя и держал Киприан попервоначалу, так его и встречал архиепископ суздальский Евфросин, а с ним духовенство, бояре и простые миряне — торжественно и радостно} — еще на подходе к городу, возле села Горбатово, знаменитого черной вишней и красными коровами. В Нижнем в честь митрополита сотворен был пир, честили Киприана дарами многими. А после того как попили-поели, и дружбе конец настал: Киприан совершил литургию, после которой сказал, что нижегородцы должны не только суд и пошлину ему дать, но что и вся епархия должна быть под его прямой властью.
Евфросин, как выяснилось, к этому был готов и поначалу, желая избежать большой брани, мягко возразил митрополиту, что он самостоятельно управляет епархией, подобно своему предшественнику Дионисию.
— Ведомо, ведомо мне это, — рассудливо да мирно начал Киприан, уверенный, что одними увещеваниями сможет решить дело включения нижегородских земель в свою митрополию, — Однако же управлял Дионисий спорными городами лишь на правах экзарха, только как глава отдельной церковной области, подчиненной митрополии.
Но и к этому Евфросин подготовился: показал предусмотрительно захваченную в дорогу из суздальской ризницы патриаршую грамоту на принадлежность Нижнего Новгорода и Городца к Суздальской епархии. А при этом еще, словно бы ненароком, показал мантию епископскую, пробитую татарской стрелой: еще в бытность митрополита Алексия приезжал в Нижний Новгород Мамаев посол Сарайка с немалой ратью, которая начала, по обыкновению, хозяйничать в русском городе, но новгородцы не потерпели обиды и, после того как Сарайка пустил стрелу на владычный двор, возмутились и перебили полторы тысячи ордынцев.
И всегда духовенство наше, нижегородское, за честь земли Русской без страха стояло.
Киприан уловил в словах архиепископа скрытый упрек себе и с еще большей отчетливостью понял, что без борьбы, может быть, борьбы очень трудной и жестокой, на своем ему не настоять.
— Невместно мне ухищряться такой суетой, и сущие пустяку не должны меня влечь, — с явным притворством сказал митрополит всея Руси, и Евфросин ответил ему в тон.
— Ведомо, ведомо мне, владыка, что помыслы высокие тебя влекут… Благодарствуем за Кормчую, кою ты самолично с греческого на славянский переложил и нам пожаловал…
Киприан насторожился, усиливаясь понять: и в самом деле думает Евфросин так или, зная, что митрополит лишь переписал книгу церковных законов, до него уже переведенную, уязвить хочет, обличить в самозванстве. Спросил на пробу:
— Откуда ведомо тебе сие?
— В монастыре Печерском летописание ведется давнее — зараньше в Нижнем Новгороде начали свод деяний российских вести, нежели в ином каком городе, — тут Евфросин потомил недолгим молчанием, чтобы все могли проникнуться важностью сообщения, разъяснил: — Раньше, нежели в Новгороде Великом, в Твери, в Рязани или хотя бы в Москве самой, где задержалась митрополия…
— Ну и что? — нетерпеливо перебил Киприан, чувствуя, куда клонит Евфросин и уже желая резко обозначить свои отношения с ним. А тот преспокойно продолжал.
— Так вот, составитель летописного свода Лаврентий написать возжелал так: «Киприан, митрополит киевский и всея Руси, егда прииде из Константинограда на русскую митрополию, и тогда с собою привез правильные книги христианского закона, греческого языка правила, и перевел на славянский, и Божиею милостью пребывают и доныне без всяких смутов и прикладов и новых вводов»[101].
Киприан уже не сомневался, что в тихих словах архиепископа была заложена издевка. Ишь ты, «написать возжелал», а написал ли? Спросить об этом значило выдать себя с головой, и Киприан сказал надвое:
— Книгу божественных правил я привез из Царьграда, и Катехизисом моим пользуются на православной Руси повсеместно — Все в этих словах было правдой, только всяк по-своему мог читать слова «привез» и «Катехизисом моим».
Евфросин был ветх денми, но умом ясен, взглядом зорок. Он согласно кивал седой головой и как-то по-цыплячьи зажмуривал глаза истончившимися от старости веками, что почему-то особенно раздражало Киприана. Он вообще был зол издавна на все суздальско-нижегородское духовенство: не мог простить и притязаний Дионисия на митрополичью кафедру, и возражений против поставления Киприаном основателя Спасского монастыря в Суздале Евфимия, да и настроение Евфросина давно было известно ему. Киприану стоило немалых усилий, чтобы выдержать приличие до конца. Поигрывая дорогим наперсным крестом, он попытался вернуться к искону разговора:
— Дионисий неправым путем заручился патриаршей грамотой и должен был претерпеть возмездие.
— Христианам, преимущественно перед всеми, запрещается насилием исправлять впадающих в грехи, — вставил кротко, но опять не без яда Евфросин, намекая на загадочность смерти Дионисия на чужбине.
— Верно, верно, — вполне согласно поддержал Киприан, — мирские судьи великую власть оказывают над людьми, преступающими законы, и удерживают их от преступлений против их воли, но в церкви должно обращать на лучший путь жизни не притеснением, а убеждением.
Евфросин покорно склонил голову: мол, исполать тебе, владыка, убеждай! И предложил осмотреть монастырь, пояснив, опять же не без умысла, что основан он пришедшим на Волгу из Киева другим Дионисием, мужем зело образованным, и построен точно по образу Киево-Печерского монастыря, который после Батыева нашествия приходит в окончательное запустение, и его некогда главенствующее место в русском иночестве призван иметь вот этот как раз, Нижегородско-Печерский.