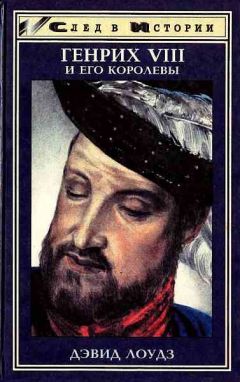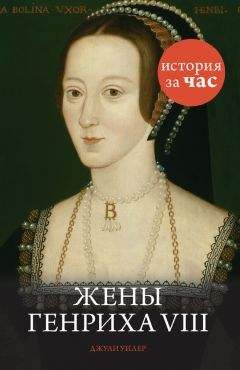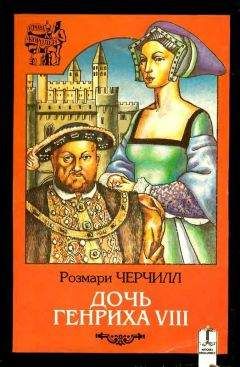Генрик Сенкевич - Повести и рассказы
«Ступай, Янко! Там нет никого... Ступай же, Янко!..»
Ночь была тихая, светлая. В барском саду над прудом соловей стал запевать да пощелкивать: «Поди возьми!» Добрая птица лелек закружилась бесшумно над его головой: «Нет, нет! Янко!» Но лелек улетел, а соловей остался, и лопушник, качаясь, все бормотал про себя: «Нет никого, нет никого!» Скрипка опять выступила вперед, засияла...
Маленькая сгорбленная фигурка двинулась осторожно вперед, а между тем соловей тихо-тихо пощелкивал: «Поди, иди, возьми!»
Белая рубашонка, не закрытая темными листьями, мреет невдалеке от растворенной двери; усиленное дыхание больной детской груди слышится уже на пороге. Еще мгновение — и за порогом виднеется одна только босая детская ножка. Напрасно ты, лелек, добрая птица, пролетаешь еще раз, крича: «Нет, Янко, нет!» Янко ступил уже в комнату.
Тут лягушки грянули разом в соседнем пруду из-под темных ветвей барского сада. Соловей замолк, лопух не шелохнет, стих ветер... Между тем Янко полз далее и далее, но вдруг его объял ужас. Среди лопухов он чувствовал себя дома, точно зверенок в родимых кустах, теперь он напоминал зверенка в ловушке. Его движения стали порывисты, дыхание короткое, со свистом, к тому же он очутился во тьме. Тихая летняя зарница, промчавшись по небу от востока и до заката, еще раз осветила комнату и в ней Янко на четвереньках перед скрипкой, с головой, приподнятой кверху. Но зарница потухла, туча закрыла луну, н уже ничего не было ни видно, ни слышно-
Только через минуту из темноты вырвался тихий и жалобный звук, точно кто неосторожно коснулся натянутой струны, и вдруг-
Грубый заспанный голос, по-видимому из темного угла комнаты, окликнул сердито:
— Кто тут?
Янко притаил дыхание, но грубый голос окликнул вторично:
— Кто тут?
Чиркнули по стене спичкой, стало светло, а затем... Ах, боже! Послышалась ругань, удары, детский плач, крики: «О! Ради бога!», собачий лай. В окнах забегали огоньки, в усадьбе поднялся шум, суетня...
На следующий день Янко стоял уже перед судом у войта.
Неужто хотят судить малого в качестве вора?.. Вероятно. Посмотрели на него войт и судьи, как он стоял перед ними с пальцем во рту, с широко раскрытыми испуганными глазами, маленький, худой, запачканный, избитый, не зная даже, где он, что нужно от него этим людям. Как тут судить этакое создание, которому всего десять лет, которое еле держится на своих слабых ножках. В тюрьму его, что ли?.. Где уж! Надо же притом иметь и немного жалости к детям. Пусть его попросту возьмет сторож да пусть постегает маленько розгой, чтобы другой раз неповадно было, и все тут.
— Ну, конечно!
Позвали Стаха, что был сторожем.
— Возьми-ка его да постегай для памяти.
Стах мотнул глуповатой головой, головой зверя, захватил Янка под мышку, точно котенка, и понес его на гумно. Дитя будто не понимало, что с ним происходит, или уж очень было запугано, оно не издало ни одного звука, лишь смотрело из рук, как смотрит пойманная птица. Почем ему знать, что это с ним хотят делать. Только когда Стах на гумне сгреб его своими лапами, растянул на земле, поднял рубашонку и вытянул прутом со всего плеча, тогда только Янко вскрикнул:
— Матуля! — И как его сторож розгой ударит, он свое: «Матуля, матуля!», но все тише, слабее, и наконец удары раздавались по-прежнему и уже не сопровождались детскими криками. Янко замолк.
Бедная, разбитая скрипка!..
И глуп же ты, скверный Стах! Разве бьют этак детей? Ведь это же было мало и бессильно, в чем и раньше душа-то держалась!
Пришла матка, взяла ребенка, но уж должна была донести на руках до дому... На другой день Янко не поднялся, а на третьи сутки, вечером, он умирал спокойно под толстым рядном.
За стенкой в листве черешни щебетали ласточки, солнечный луч прорывался в оконце, окружая сиянием спутанные светлые кудри и бледное личико ребенка, в котором не было уже ни Кровинки. Луч этот был точно открытой дорогой отходящей детской душе. Благо, что хоть теперь открылась ей широкая дорога ярких лучей, ее жизненный путь был поистине путь страшно тернистый. Между тем исхудалая грудь подымалась еще слабым дыханием, а по выражению детского личика было видно, что оно жадно ловит голоса деревни, врывавшиеся в открытое окошко. Был вечер, и девки, возвращаясь с сенокоса, пели: «На зеленой на травушке!», а со стороны ручья лились переливы свирелей. Последний раз слушал музыкант Янко, как пела деревня... На рядне с ним рядом лежала его тесовая скрипка...
Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и побелевшие уста пролепетали:
— Матуля...
— Что, сыночек? — спросила мать, подавляя подступившие к горлу рыдания...
— Матуля! Будет ли у меня на том свете настоящая скрипка?
— Будет, сыночек, будет! — ответила мать, но уж не могла сказать ничего больше, потому что в груди ее поднялась горькая жгучая жалость: «О боже! боже!»— И она повалилась грудью па сундук и заревела точно безумная или как человек, которому стало ясно, что уж не вырвать ему свою любовь из когтей смерти.
Да и не вырвала,— когда, поднявшись, она посмотрела на ребенка, глаза маленького музыканта были открыты, но неподвижны, а лицо носило печать какого-то напряженного и как будто мрачного величия. Луч солнца отошел также...
Мир тебе, Янко!
* * *
На следующий день господа вернулись из Италии в свою усадьбу. Вернулась молодая барышня с женихом. Жених говорил барышне:
— Quel beau pays que l'ltalie![40]
— И что за народ,— настоящий народ художников. On est heureux de chercher la-bas des talents est de les proteger...[41] — добавляла барышня.
Над музыкантом Янко шумели березы...
1878
ОРСО
Последние дни осени в городке Анагейме в Южной Калифорнии — дни празднеств и забав. К этому времени заканчивается сбор винограда и город кишит толпами рабочего люда. Нет ничего красочнее этой толпы, состоящей из мексиканцев, а главным образом из индейцев племени Кагуилла, которые ради заработка приходят сюда даже с диких гор Сан-Бернардино, лежащих далеко в глубине страны. И те и другие располагаются на улицах и рыночных площадях (или так называемых «лотах»), где спят под навесами или прямо под открытым небом, всегда ясным в это время года. Прелестный городок, окруженный группами эвкалиптов, касторовых и перцовых деревьев, кипит, словно шумная и говорливая ярмарка, представляя собою разительный контраст с глубоким и суровым покоем пустыни, поросшей кактусами и начинающейся сразу же за виноградниками. Вечером, когда солнце скрывает свой сверкающий диск в пучинах океана, а по розовому небу тянутся стаи розовых в лучах заката диких гусей, уток, пеликанов, чаек и журавлей, целыми тысячами летящих с гор к океану, в городе зажигаются костры и начинается веселье. Негры-музыканты щелкают кастаньетами, около каждого костра слышны звуки бубна и ворчливый рокот банджо; мексиканцы танцуют на разостланных пончо свои излюбленные болеро, индейцы подражают им, держа в руках длинные белые тростинки киотэ и покрикивая «эвива!»; трещат костры, в которые все время подбрасывают поленья красного дерева, летят искры, и кровавое пламя освещает скачущие фигуры и стоящих вокруг об руку со своими прекрасными женами и дочерьми местных колонистов, глядящих со стороны па всеобщее веселье.
Но день, когда индейцы выжимают последнюю гроздь винограда, бывает еще более торжественным. В этот день из Лос-Анджелеса приезжает бродячий цирк немца господина Гирша со своим зверинцем, состоящим из обезьян, ягуаров, африканских львов, слона и нескольких впавших от старости в детство попугаев: «The Greatest Attraction of the World!» И тогда кагуиллы отдают свои последние песо, которые они еще не успели пропить, лишь бы попасть в цирк. Кагуиллов привлекают, конечно, не столько дикие звери — их достаточно и в Сан-Бернардино,— сколько желание посмотреть на цирковых артисток, силачей, клоунов и на всевозможнейшие чудеса, которые кажутся им чародейством, возможным лишь с помощью сверхъестественных сил.
Но всякий, кто осмелился бы подумать, что цирк господина Гирша является приманкой только для индейцев, китайцев и негров, навлек бы на себя справедливый и — видит бог! — небезопасный гнев господина директора. Напротив, с приездом цирка в Анагейм съезжаются не только окрестные фермеры, но и жители мелких соседних городов: Вестминстера, Оранжа и Лос-Ниетос. Улица Апельсина бывает тогда так запружена всевозможными повозками и тележками, что среди них трудно пробраться. Местный «большой свет» представлен полностью. Молоденькие стройные мисс со светлыми челками, взбитыми над самыми глазами, грациозно восседая на козлах, правят лошадьми и весело щебечут, сверкая зубками; испанские сеньориты из Лос-Ниетос бросают долгие томные взгляды из-под кружевных накидок; замужние женщины, одетые по последней моде, гордо шествуют, опираясь на руку своих загорелых мужей-фермеров, весь наряд которых состоит из потрепанной шляпы, рипсовых панталон и фланелевой рубашки, застегнутой ввиду отсутствия галстука па крючок и петельку.