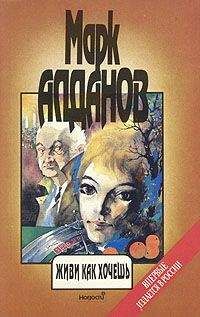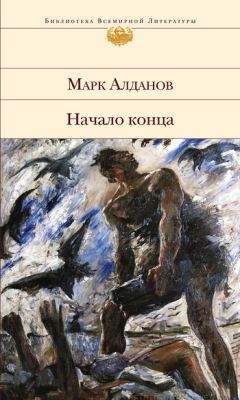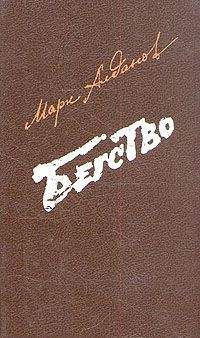Назир Зафаров - Новруз
Опустив глаза, я выслушиваю все, что предназначено для неряшливого человека. На моем халате действительно целая сотня засохших комочков глины.
— Дорога такая, — пытаюсь оправдаться я.
— Э-э, глупый! — сердится матушка. — Не дорога выбирает путника, а путник дорогу. Не можешь обойти грязь? Для чего глаза у тебя? Или ты ногами смотришь?
Наверное, я смотрю ногами, а они обуты в кавуши и ничего не видят.
Только я подумал о кавушах, как матушка, словно угадав мои мысли, всплеснула руками.
— Боже праведный, в кавушах столько же грязи, сколько и на дороге! А ну-ка сними, я очищу их.
Тряпкой матушка вытерла кавуши, взяла пучок соломы и затолкала внутрь, чтобы ногам моим было сухо и тепло. Тепла от соломы не так уж много, но босым ногам рядом с соломой все же лучше, чем с глиной.
Обутый, одетый, с тельпеком на голове я наконец оказываюсь на улице и начинаю свое путешествие к дому Захида-бобо. Вслед мне звучат последние напутствия матушки:
— Шагай осторожней! Подбери полу халата! Если впереди идет взрослый, ставь ногу в его след. Не черпай грязь кавушами, это не шурпа из курицы…
Я киваю, все, мол, понял и главное насчет супа из курицы, и перебираюсь на другую сторону дороги. Здесь чуточку суше, и из-под моих кавуш глина не будет разлетаться, как стая вспугнутых воробьев. К тому же правая сторона приведет меня ко двору тети. Не сразу, конечно; прежде придется миновать перекресток и пересечь большую дорогу, которая соединяет джизакский базар с окрестными кишлаками. Но что такое перекрестки и повороты! Это ведь не кладбище святого с его злыми духами. На перекрестке — люди. Много людей. Рядом с ними нестрашно. Три чайханы и бакалейная лавка приманивают и горожан и жителей джейляу, возвращающихся с базара в степные и горные кишлаки. Огромные пузатые самовары весь день курятся дымком и попыхивают паром. Под казанами не гаснет огонь — что-то варится, жарится в них, и аппетитный запах течет по улице. В холодную погоду здесь вроде бы теплее, а уж веселее — наверняка.
На перекрестке я во все глаза гляжу на людей, лошадей, арбы — по одежде, по сбруе, по колесам пытаюсь угадать, кто откуда приехал. На это угадывание уходит не так уж много времени, ровно столько, чтобы протащить свои изрядно облепленные глиной кавуши через дорогу. Впрочем, его вполне достаточно, я успеваю еще повернуть голову в сторону маленькой лавочки, где сидит сшивальщик посуды — чигачи, и подсчитать, сколько пиал и чайников он уже отремонтировал за утро, — они выставлены напоказ. И не только в сторону лавочки, но и в сторону земляной супы, на которой расположился пекарь Урунбай, и глазом определить, много ли румяной самсы осталось в его тазу. Напрасно матушка говорит, что я смотрю ногами. Нет. Глаза мои все видят и все примечают. Правда, до луж и кочек на дороге дело не доходит. У человека два глаза всего лишь, а кочек сотни. На одной из них я поскальзываюсь и лечу в лужу. Взмахами рук пытаюсь удержать равновесие, но это не помогает. Кому суждено испачкаться глиной, тот обязательно испачкается.
— Эх, бедняга! — слышу я голос сшивальщика посуды. — Так можно расколоться хуже пиалы.
— В такую погоду, не поцеловав землю, трех шагов не сделаешь, — отвечает Урунбай-самсабаз.
Насчет числа шагов пекарь явно ошибся. Их было Далеко не три. Но, находясь в луже, стоит ли уточнять. Надо подняться, но это так же трудно, как и не упасть. Ноги разъезжаются в разные стороны.
— Однако выбрал ты самую большую лужу, — замечает Урунбай-самсабаз и берет меня за ворот халата, чтобы поднять. — Сидел бы себе дома и грелся у сандала. Понесла же нелегкая на улицу.
Рука у пекаря крепкая. Как цыпленка вытягивает °н меня из лужи.
— В чем только душа держится? — качает головой пекарь. — Тебе бы по воздуху летать, а не по земле ходить. Куда торопишься-то?
— К тете, — отвечаю я, став наконец на ноги и пытаясь смахнуть с халата грязь.
— К тете! — делает очень серьезное лицо Урунбай-самсабаз. — А я думал, в Мекку. К тете в любую погоду надо идти.
Шутку пекаря я не понял, но догадался, что тетя много важнее Мекки, если к ней надо идти в любую погоду. Сшивальщик посуды рассудил точно так же и добавил:
— Зимой надо выходить из дому, только когда больна тетя или когда дают обезьяньи представления.
У больной тети я бывал часто, а вот на обезьяньих представлениях — ни разу. Да и устраивались ли в нашем городе такие представления — не слышал.
Поблагодарив самсабаза за доброту, я покинул перекресток.
Осторожно ступая, чтобы снова не угодить в лужу, упираясь руками, словно посохом, в дувалы, я кое-как добрался до тетиной калитки.
Добрался, а вот отворить ее смелости не хватило. За калиткой мог оказаться Захид-бобо, а встреча с ним все равно, что со злым петухом, — сразу набросится и начнет клевать.
Сквозь щель начинаю разглядывать двор. Что можно увидеть в узенький просвет: старую урючину, край террасы и разбитый казан, который вот уже сто лет лежит посреди двора.
У дерева петуха, то есть Захида-бобо, не видно, у террасы — тоже. Под казаном спрятаться трудно не только дяде, но и настоящему петуху — мал слишком. Путь в ичкари — женскую половину свободен. Я вбираю голову в плечи, чтобы казаться неприметнее, и открываю калитку.
Конечно, счастливому человеку не стоит труда пройти от калитки до ичкари, он может пройти даже от дома до гузара, но я, как известно, не относился к числу удачливых, поэтому, перешагнув порог, тотчас наткнулся на Захида-бобо. Он вырос передо мной словно из-под земли.
— Явился! — произнес дядя тем самым удивительным голосом, от которого душа уходит в пятки.
Мне надо было ответить: «Да, явился», и поздороваться, как учила матушка, но все слова вылетели почему-то из моей головы, хотя она и была прикрыта шапкой, и язык прилип к гортани. Я еще глубже втянул голову в плечи, не обращая внимания на то, что уши уже уперлись в воротник.
— Молчишь? Здесь ты немой, а дома разговорчивый. Ну говори, зачем явился?
Я кое-как оторвал язык от гортани и прошептал:
— Так…
— Так только на базар с пустым кошельком ходят. Подсматривать да подслушивать пришел?
Как можно решительнее я закачал головой.
— Нет! Тетю навестить.
— Мать послала?
— У ней бровь дергается.
Захид-бобо так и взвился от этих слов.
— Ага, дергается! Сейчас и у тебя начнет дергаться. Он протянул руку, чтобы схватить меня за ворот. И, наверное, схватил бы, не откройся дверь и не появись на пороге Зухра-апа.
— Не пугайте ребенка, отец! — сказала она. — От страха он богу душу отдаст.
— Им всем время отдать богу душу.
Захид-бобо переступил порог и так хлопнул калиткой, что она чуть не сорвалась с петель.
— Пропади все пропадом!
Эти последние слова, произнесенные уже на улице, известили меня о конце боя, из которого я вышел невредимым и мог теперь войти в дом. С перепугу, однако, я позабыл, зачем пришел, и бросился к своей спасительнице Зухре-апа, прильнул к ней, как цыпленок, увидевший тень коршуна.
— Ну, ну, успокойся, — обняла она меня. — Йигиту не пристало плакать. И дрожать не надо, дядя ведь ушел.
Оказывается, я плакал. Перед Зухрой-апа мне не хотелось выглядеть жалким, поэтому с помощью рукавов я принялся высушивать глаза, и так старательно это делал, что всю глину, прилипшую к халату во время купания в луже, размазал по лицу.
— Э-э, да ты упал! — развела руками Зухра-апа. — Пойдем посушимся и обогреемся.
Комната, куда привела меня Зухра-апа, была полна родственников — моих сестер, братьев, их жен и детей. И все они сидели вокруг сандала и наслаждались теплом, что шло от тлеющих углей. Тетя приютилась в дальнем углу. Подперев голову руками, она жалобно стонала.
— Вай-вай! Может ли человек вытерпеть такие муки? Чугунный казан и тот раскололся бы от его кулаков. А каково моей голове?
Видимо, к семейному скандалу угодил я. Хотя трудно было не угодить — скандалы здесь происходили каждый день, а то и два раза в день.
Слушая жалобы тети, я всем сердцем сочувствовал ей. Небось больно, когда бьют. Глупая детская мысль повела меня к казану, что лежал во дворе, и я рисовал себе картину, как Захид-бобо разбивает его своими страшными кулаками. Так он может и меня сокрушить в один прекрасный день.
— Мамочка, — произнесла Зухра-апа душевно, желая утешить бедную тетю мою. — Вы не перечили бы отцу, не вызывали его гнев.
— Разве волк, нападая на ягненка, ждет, когда тот заблеет?
— Эх, мамочка, вы совсем не ягненок.
— Все хотят, чтобы я молча отправилась на тот свет…
Сказав это, тетя залилась слезами. И до моего прихода она, должно быть, плакала. Рукава чапана и платок ее были мокрыми, словно на них целый день лил дождь.
— Ну что ж делать, мы слабы. Такими нас создал бог, — вздохнула Зухра-апа. — Вы же сами учили меня покоряться судьбе. Судьба наша — гнев отца.