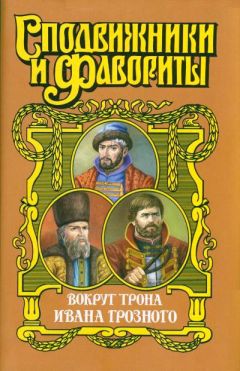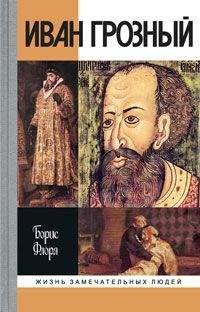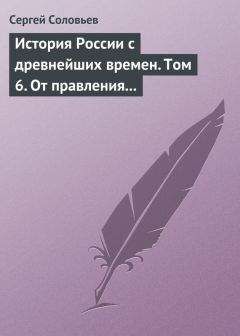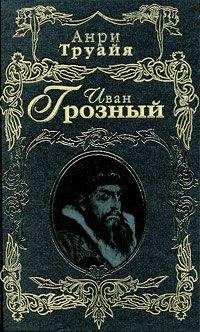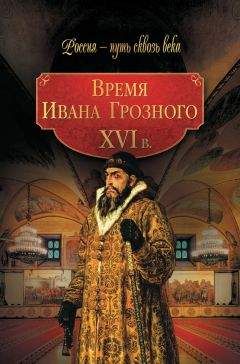Валерий Полуйко - Лета 7071
— Род ваш презрен за клятвоотступничество, оттого и беды на нем, — спокойно, дерзко выговорила Ефросинья. — И не беды то, а воздаяния.
— Сын у меня родился, тетка, — словно бы не услышав чудовищной дерзости Ефросиньи, спокойно сказал Иван. — Ни в чем не винен младенец, а ты уж и на него озлобилась. Поздравлений уникла! Грех то великий, тетка! И не я тебя за него судить стану. Грядет на тебя иной суд!.. И не лицемерь более пред святыми образами — твоя душа уж черна от греха! И токмо единым ты можешь спасти ее… Единым!..
— Нет!.. — выдохнула Ефросинья, поняв Ивана, и впервые в глазах ее прометнулся испуг. — Нет, — сказала она тверже, но взгляд Ивана стал невыносим ей она отвернулась, с болью, со страхом прошептала: Токмо нудма ты пострижешь меня.
— О твоей душе беспокоюсь…
— Мою душу оставь мне…
— Богу ее потребно отдать — всецело… Средь людей ей уж опасно быть. Страшна твоя душа… Страшна, тетка!.. Оттого и прошу: уйди в монастырь. Отстранись!.. Не навлекай своей злобой нового лиха на землю нашу. Уйди, тетка, будь благоразумна.
— Уйти и оставить тебе на растерзание все!.. Все, что полито моими слезами! Нешто не ведаю, чего ты хочешь?!
— Лагоды хочу и спокоя, — резко сказал Иван. — С Володимером мы уживемся. С тобой — нет! Уйди в монастырь… Прошу, слышишь, прошу — уйди в монастырь!
— Нет! — крикнула Ефросинья.
— Нет?! — улыбнулся зловеще Иван. Тяжелое тело его нависло над Ефросиньей, как занесенный топор. Ефросинья приникла к полу — длинные пегие пряди ее волос расстелились у ног Ивана. Иван злобно наступил на них, лишив Ефросинью возможности поднять голову, злобно проговорил, обращаясь более к самому себе, чем к Ефросинье: — И чего ты хочешь? Чего?.. Несчастная!.. Добыть Володимеру престол? А пошто же ему быть на престоле? От четвертого удельного родился он! Что его достоинство к государству? Которое его поколенье? Ведаю, какой яд ты в душе таишь и иных скудоумных тем ядом отравляешь!.. Да истина лишь богу ведома, а не тебе! Не ведая истины, ты движешься корыстью и вновь берешь на душу черный грех, выставляя Володимера вместо меня. Я не похищением, не супостатством, не кровью сел на государство… Божьим произволением рожден я на царство и не усомняюсь в том, понеже меня батюшка пожаловал-благословил государством, да и возрос я на государстве!
Иван отступил, освободил Ефросиньины волосы… Ефросинья медленно, измученно поднялась с пола, не глянув на Ивана и будто вовсе забыв о нем, пошла к образам, опустилась перед ними на колени, беззвучно стала молиться.
Иван подошел к ней, стал за спиной..
— Не победить тебе, тетка! — уверенно и твердо проговорил он. — Ни за что не победить! Со мной бог и правда — с тобой лише зло! И хоть сильна твоя сторона и велико племя злопыхов и израдцев, но, будь вас даже в тыщу раз больше, вам все едино не одолеть меня! За что вы стоите? За себя лише!.. За благополучие свое… Я же стою за себя и за Русь! Да — и за Русь! Нещадный, злобный, мерзкий… ублюдок, как мнишь ты и оные, но я! стою за Русь, а не вы — чистые, благоверные, непорочные!.. Вам не дано положить душу за други своя, ибо вы положили души свои за самих себя, и страсть ваша — истлевшая головешка! Она не осветит ваш путь и не согреет ваши души… Но пожар от нее может заняться… Может! Однако и на пожарище через год прозябает трава… И на пожарище я построю то, что задумал!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В первое же погожее утро дьяк Василий Щелкалов велел запрячь лучшего своего жеребца и, по давней и неизменной своей привычке, прежде чем ехать в приказ, отправился на посад: обсмотреть, проведать, проследить, где что делается и как делается. До всего ему было дело, до всего нужда: ездил по Москве, как хозяин.
Не любят за это Щелкалова на Москве. знает дьяк про эту нелюбовь — гордится. Когда едет по посаду и видит, как прячутся от него посажане, довольная ухмылка вползает ему на лицо. Его маленькие, вечно прищуренные глазки еще проворней принимаются зыркать по сторонам. Под каждую подворотню заглянет, по дыму, на нюх, узнает, в какой избе в пост скоромное готовят или тайно от мытника брага варится.
Пока держалась непогода, и пожили посажане спокойно. Не показывался Щелкалов на посаде: не хотел морозиться, а может, и боялся, что в такой завирюхе тюкнут обухом в темя, и только недобрый помин останется о нем. Злобы на него посадские накопили премного: каждый терпел от дьяка, и у каждого на него был припрятан за пазухой камень…
Знал об этом Щелкалов и в глубине душе страшился посадких, и за этот свой тайный страх еще сильней измывался над ними…
Нынче никто не попался под руку, хоть и проехал он уже добрую половину своего обычного пути.
— Прячутся, ублюдки! — вздосадовался Щелкалов.
С утра у него всегда ломило душу — от тяжелых снов и от постного завтрака. Не отыграйся он на ком-нибудь, не вызлись, не отведи душу — весь день будет мучить его тоска.
Жеребец шел весело, прытко, игриво нахлестывая себя длинным хвостом по ляжкам. Близ Мясницкой наехал Щелкалов на мужика, не поклонившегося ему, а только снявшего перед ним шапку. Мужик увернулся, но не совсем ловко — жеребец толкнул его боком, свалил в снег.
— Эк, лотрыга! Сермяк драный! — напустился на мужика Щелкалов — не столько от злости, сколько от радости что нашел-таки, на ком отвести душу.
Мужик неуклюже барахтался в снегу, проваливался то руками, то ногами и никак не мог подняться.
— Ну подымайсь, подымайсь! — блаженствовал выпрыгнувший из седла Щелкалов. — Аль подсобитъ твоему заду сапогом? С ранья напивился, скот!
Мужик наконец изловчился, поднялся: без шапки, взъершенный, будто из бани, на бровях, на ресницах, на бороде, на усах — снег, глаза растерянные, но не испуганные, не заискивающие…
— Пошто не кланяешься, сучий сын?
Мужик сдул с губ снег, спокойно отговорил:
— А я никому не кланяюсь — ни царю, ни богу. Чресла у мене не гнутся… Перешиблены!
— Врешь, нехристь! — усомнился Щелкалов. — Батогом взгрею — угнешься!
— Пошто — врешь?! Не вру! У царя нашего батюшки, Иван Васильевича, вопроси: кто первой на стену казанскую влез? Брат воеводы Курбского — Роман да я — Пров Авдеев! — Мужик осанисто выпятился, смачно сопнул. — За то мне от государя гривенка 129 жалована была!
— Уж пропил небось? — с издевкой ухмыльнулся Щелкалов.
Мужик поморгал глазами: и виновато, и радостно, протянул снизу вверх по носу рукавом и доверительно, как своему дружку, признался дьяку:
— Пропил!.. В том же годе…
— Ну не грех, — ободрил его зачем-то Щелкалов. Может, для того, чтоб поскорей и полегче от него отвязаться. Мужик уже надоел ему. — Не грех, — еще раз повторил он и взобрался в седло.
— Не слыхал про мене, что ль? — простодушно подивился мужик.
— Не слыхал, — буркнул Щелкалов.
— На Казанском деле, что ль, не был?
— Ступай, ступай, — отмахнулся от мужика Щелкалов, задетый его вопросом.
Жеребец с места взял рысью, разбил встретившийся сугроб, обдав Щелкалова мокрой пылью. Проехав в конец улицы, Щелкалов круто поворотил назад и во весь опор поскакал к Китай-городу. После встречи с мужиком почему-то расхотелось ехать дальше. Сбил ему мужик охоту, сорвал с него самую острую и злую заядливость. Залегла в душу тоска, заканудила, как боль… Заполз бы он в сугроб и сидел там, как медведь в берлоге, не зная ни дня, ни ночи… Или, как этот мужик, забрался бы с рассвета в кабак и замаял себя медовухой, чтоб и злость, и горесть, и радость — все отлетело прочь. Чтоб молиться кабатчику, как богу, а богу — как кабатчику.
Чтоб и греха-то было всего — лишь на алтын куплено. И ни забот, ни обид, ни зависти к сильным и именитым, ни страху перед ними, чтоб был он сам по себе, а все остальное тоже само по себе. Чтоб не просыпаться по утрам с мыслью, что что-то не сбудется, а что-то не минется, что что-то не сделано, кому-то не угожено, с кем-то не слажено… Не рвать по-собачьи свою долю, не грызться за нее оголтело с другими, не пнуться наперед и не бояться, что тебя заступят, обойдут, похерят… Не усердствовать и не лебезить перед толстосумами, не дрожать перед сильными — жить, как живут блаженные, зная и чтя одного бога, вознося его над всеми и надо всем.
— В монастырь! В монастырь! — вымученно и зло шепчет он самому себе, словно долбится чем-то тяжелым в свою душу, в свою боль, в свою жалкую и постыдную неприкаянность. — В скит!.. На хлеб и воду!.. — А рука с плеткой все яростней и яростней нахлестывает жеребца. Жеребец, рассвирепев от боли, злобно рвет копытами свежий наст, расшвыривает его по сторонам вместе с клочьями изжелта-белой пены.
— Эка, забрало лешего, — бурчат в бороды встречные возницы, поспешно заворачивая на сторону своих перепуганных лошаденок.
Какой-то отчайдушный мужичина, сиганув с дороги в сугроб, глумливо заорал: