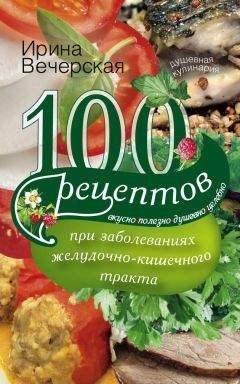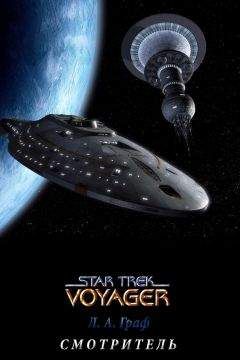Наталья Головина - Возвращение
Что же тут ответить? — только улыбнуться благодарно, виновато. Да, женщинам, наверное, трудно идти с ним в ногу.
Сон вдруг разорвался…
На рассвете (она собиралась ночью, чтобы успеть к первому омнибусу) он увидел на пороге своего кабинета Наталию Алексеевну с саквояжами. Она поставила его в известность, что уезжает. Лиза, сонная и хмурая, волокла за собой куклу кверху ногами.
Он позволил Наталии уехать.
Добрый и мудрый Мадзини, он единственный друг Наталии Алексеевны, — возможно, потому, что на расстоянии. Они беседуют с ним в письмах. Иосиф Мадзини — мистик на республиканский манер, проповедник социального отпора и в то же время смиренного приятия ближнего и любви к нему. Немного погодя он будет принят ею холодно: почему не писал чаще? Но сейчас он обращается к ней: «Милый, милый друг Натали, невзгоды, постигающие нас лично суть последствия побочных причин, коренящихся в неполноте нашей природы, в окружающей нас материи, в наших ошибках и в нашей непредусмотрительности. Они наш неизбежный удел, потому что мы — человеческие существа, потому что мы стоим на низшей ступени, чем та, которой мы должны достигнуть… Вернитесь к нам. Не заставляйте нас думать, что для вас все бесплодно и пустынно, что вы больше не любите, что знамя, за которое мы боремся, для вас уже ничто. Только какая-нибудь святая цель вне нас, только какой-то долг могут спасти нас от бесчисленных печалей, которыми одолевает нас жизнь, от иссушающих сомнений, которые они влекут за собой…»
Семья Герцена вновь рассредоточилась. Наталия Алексеевна с Лизой поселилась в Монтре во Франции, куда он не имеет права въезда… Встреченный случайно знакомый сказал, что у Александра Ивановича загнанный вид. Такое с ним бывает после получения писем оттуда. Он отвечал Наталии, что для него немыслимо несколько лет не видеть Лизу… Возможно, это заслужено им, но отстранить себя от ее воспитания он не позволит, в этом он присягает! В декабре, чтобы быть вместе в годовщину смерти близнецов, он отправился в Италию. (Теперь Наталия там). Уехал оттуда не простясь.
Затем к Наталии Алексеевне ездила для примирения Тата. Напрасно.
Вновь он среди «форестьеров». Это путешественники, иностранцы. Какая-то кочующая вселенная: множество дам, священнослужителей и отчего-то французских военных в небольшом чине… Наталия Алексеевна теперь перебралась в Швейцарию. Герцен путешествовал как бы параллельно… «Колокол» не издавался уже около года: спрос на него упал.
Вот Александр Иванович в Базеле. Коротко записал свои впечатления: «Рейн — единственная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько не выразимой скуке обеих сторон… Город транзитный: все проезжают по нем, и никто не останавливается, кроме комиссионеров… Жить в Базеле без особой любви к деньгам нельзя. Впрочем, вообще в швейцарских городах жить скучно, да и не в одних швейцарских, а во всех небольших городах». Даже писать, на его взгляд, о Базеле можно именно проездом или много спустя, отойдя на расстояние. Это чуть проявляет черты, иначе глушит скука.
Дело было в том, что все края похожи, кроме одной страны. Тоскливо вспоминалось, что где-то там, на другой планете, растут восковые березки…
Как там в «Рудине»: «Устал… Другой бы умер давно».
Глава тридцатая
Зову живых!
В России в пору следствия по их делу и процесса 32-х все как бы застыло в подозрительной настороженности и испуге. Все общественные институты «превратились в полицию» — так расценивал Герцен положение на родине после 1863 года.
И тут выстрел Каракозова.
Ему двадцать шесть лет. Это молодой человек с тяжелым и лихорадочным взглядом серых глаз и светлыми откинутыми назад волосами. Он из обедневшей саратовской дворянской семьи. Был исключен за участие в студенческих обществах из Казанского университета и не закончил курс в Московском. Участвовал в харьковском подпольном кружке (в планах которого среди прочего было освобождение Чернышевского), принадлежал к радикальному крылу в нем. В 66-м году узнал непреложно, насколько тяжело он болен. Зимой бродил бесприютный по Петербургу и попросил госпитализировать его в клинике для бедных, чтобы не замерзнуть на улице. К весне его доглодает чахотка… Естественный порыв для человека с убеждениями, знающего это, — принести пользу, сделать нечто, на что не решаются остальные.
4 апреля, когда после молебна в Исаакиевском соборе император в Летнем саду благожелательно принимал поклоны публики, на расстоянии шести шагов в него целился в толпе молодой человек. Последовал один промах. Другой. Костромской крестьянин Осип Комиссаров, приехавший в столицу на заработки и случайно оказавшийся в саду, подтолкнул руку Каракозова. Император лично сцепился со стрелявшим. Дальше толпа едва не растерзала террориста. «Я вас хотел от него избавить, он вас всех обманул!» — кричал тот и называл всех «ребятами»…
Газеты затем сообщили, что «злодей начал говорить на вторые сутки, а то все дерзко и очень зло смеялся». Его сразило, что по обрывку письма выяснили его имя и отыскали родственников. У него оставались нищие сестры. Последовала подачка им государя — две тысячи рублей. Петербург досадовал, что злоумышленник оказался русским, публика ожидала, что он должен быть инородцем. Зато уж крестьянин Комиссаров был явлен новым Сусаниным.
Массовый порыв последовавшего вслед за тем сыскного рвения привел к гонениям на все нестандартное и необщепринятое. Это касалось манеры одеваться, поведения, убеждений. Дамы в костюмах нигилисток (без рюш и без шляпок) были насмерть перепуганы — на улицах хватали всех одетых деловито и строго. И заодно тех, кто в пенсне. Поступил донос об одном трактире, возле которого кареты ждут всю ночь, а гости разъезжаются трезвыми: должно быть, типографщики. Выяснилось, что шулера.
Дознание по делу Каракозова велось следственной комиссией по восемнадцати часов в сутки. Измученный допросами и помраченный болезнью, Дмитрий Каракозов начал уже сам себя считать «преступником»…
Вал репрессий прокатился по стране. Потревожены были цыгане и греки, духоборы и скопцы, все, чей образ жизни не укладывался в некие рамки. Начались коллективные самосожжения в сектах в знак протеста против притеснений. Было закрыто немало сельских школ.
Цепь оказалась затянутой туже прежнего. Россия была отброшена назад в своем демократическом развитии.
Но этот же период стал началом нового этапа битвы освободительных сил с царизмом.
«…Милая Лиза, вчера я не смог тебе написать, очень много работы, а ночью твой Ага не может предаваться никаким занятиям. Как ты живешь, малышка?» Николай Платонович постоянно и с любовью писал Лизе. Ага и Патер, оба они особенно трепетно любили младшую. По этому поводу возможна шутка: «материнские» инстинкты (по их остроте и непреложности) появляются у мужчин после сорока…
Лиза требовала, чтобы Ага писал ей каждый день. Письма же Патера приводили ее в раздражение, о чем торжествующе сообщала ему Наталия. Лиза считала, что ее отец — Огарев и что ее разлучают с отцом…
Здоровье Николая Платоновича становилось все более шатким: сердечные приступы что ни день, за полгода им была написана лишь одна статья для «Колокола», стоившая ему огромного напряжения. Он чаще теперь отвечал на письма корреспондентов — дело, также требующее немалых усилий.
Они жили сейчас поблизости друг от друга в пригороде Женевы. К Огареву, как всегда и везде, тянулись окружающие, он умел делать людям добро, то есть именно им, не себе. Герцен же стал много суровее в последнее время. Тверд, спокоен и угрюм… Внушал себе: «Ты царь, живи один», — из Пушкина. Только Ника ему и хотелось видеть…
Герцену было светло, но и горестно бывать у них с Мэри: к сожалению, Ага «сломал» свой организм… Что тому причиной? — размышлял Александр Иванович. Постоянное насилие над собой ради гостеприимства, вытерпливание всяческих пустых знакомств и то и дело ломаемый распорядок дня, столь необходимый ему с его от рождения не слишком прочным здоровьем. И к тому же еще странные отношения с Мэри…
Подобного Герцен и боялся для друга. Общение и жизнь с человеком, не равным по развитию, близким более через жалость, такое общение пригнетает: слишком со многими оно оговорками… Впрочем, Ага прав (он не раз говорил это): и Герцена жизнь не балует. Однако Николенька — человек великодушного служения, на взгляд Александра Ивановича, нет кого-либо деликатнее и чище него, в его голове, пожалуй, не бывало ни одной темной или себялюбивой мысли, поэтому для него нет выхода из отношений с Мэри. Он подстраивает свою жизнь под ее.
У Николая Платоновича бывало порой катастрофически плохо с сердцем. И ясно было, что он не может нести половину нагрузки по «Колоколу».