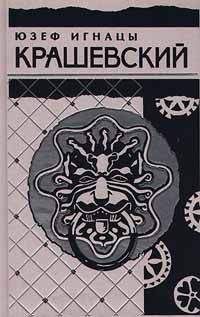Юзеф Крашевский - Комедианты
— На время, на минуты, — ответила Цеся, — но можно ли не опошлеть и не упасть, отрекаясь от высшей сферы, которая приближает к идеалам?..
— Кузина, вы ошибаетесь сильно; то, что вы называете высшей сферой, может быть, не более, как свет обмана.
— То, что вы называете обманом — поэзия жизни.
— Я ищу поэзии в правде.
— И не найдете ее, бедный мечтатель! — прибавила Цеся печальным голосом, переменяя тон и кидая на Вацлава томный взгляд.
Отчего Вацлав так боялся ее, так дрожал, словно предчувствуя что-то, когда она подходила к нему, сознавал свое бессилие в борьбе и хотел от нее бежать? Не знаю. Первое чувство всегда, даже обманутое, даже оплаченное ранами и слезами, остается глубоко в сердце. Вид Цеси поднимал в нем воспоминания, имеющие какую-то грешную, но сильно привлекательную прелесть. Вацлав напрасно упрекал себя за волнение, которое пересилить не мог.
Оно не высказывалось словами, но Цеся должна была заметить, что делалось в его сердце, и уже рассчитывала на это, потому что скоро сказала с улыбкой:
— Итак, теперь до свидания в Варшаве?
— Если вы скоро приедете, потому что я долго там не останусь, — сказал Вацлав.
— Как это! И вы решились бы на такую нелюбезность — не захотели бы подождать нас?
— Не знаю, право; я не совсем свободен.
— Да кто же свободнее вас?
— Меня? — спросил Вацлав. — Разве вы не знаете моего положения?
— Может быть. Что же, если позволите узнать, так связывает вас?
— Тысяча скучнейших дел, проектов, сделок, счетов; наконец, тянет меня мой тихий и милый домик, которого ничто не заменит мне.
— Вы уже так его любите?
— Вы сказали правду: люблю! Я привязываюсь так скоро и так сильно.
— Скоро — согласна; сильно — сомневаюсь.
— Почему?
— Почему? — смело повторила Цеся, поднимая глаза. — Потому что я, может быть, испытала, что на чувства ваши можно рассчитывать только как на свежесть ветки резеды. Сегодня она пахнет, завтра увяла и засохла! А это больно, — прибавила она, тихо вздыхая.
Вацлав не мог ничего ответить; он не знал, до какой степени искренно чувство, вызвавшее этот вздох, а Цеся, ободренная его молчанием, продолжала:
— Право, все вы, мужчины, не стоите нас, женщин: у нас однажды зародившееся чувство остается до гроба; у вас…
— По общему мнению, — сказал Вацлав, — наоборот.
— Это предрассудок и клевета: только женщины умеют любить! — воскликнула Цеся с живостью.
Но и этот аргумент не вызвал еще ничего на уста Вацлава; Цеся встала в нетерпении и все более и более, по-видимому, увлекаясь, а, может быть, немножко уже и сердясь, прибавила:
— А, как грустно, как тяжело, как больно быть покинутой или забытой!
Вацлав опустил голову, не желая еще понять.
— Вам этого нечего бояться, — пробормотал он через минуту.
— Кто же вас в этом уверил?
В эту минуту она вдруг изменила тон, голос, фигуру и прибавила странно:
— Вы не хотите меня понять, Вацлав, вы нарочно мучите меня притворством. Вы, право, несносны. Разве вы никогда не любили меня ни на минуту? Все это было только сон и обман, детская забава или просто ложь и хитрость? Признаюсь вам, в простоте души я все это приняла за правду.
Вацлав был тронут и смешался.
— Я не знаю, — сказал он тихо, — о чем вы говорите. Ведь я никогда не произнес ни одного смелого слова, не кинул ни одного самонадеянного взгляда, страдая, никогда не изменил себе. Правда, о, правда, — прибавил он, — была минута, когда я, сирота и воспитанник, осмелился обратить на вас взоры; но вы оттолкнули меня так холодно, так гордо, что я должен был покорить в себе чувство, которое стало теперь горстью пепла.
Когда он кончил, шум подъехавшего к крыльцу экипажа дал знать о прибытии Фарурея, который спешил с желанным букетом к своей суженой. Цеся с ясным лицом выслушала Вацлава, сделала усилие улыбнуться и, выказывая белые маленькие зубы, протянула ему дрожащую руку.
— Вацлав, — сказала она, стараясь обратить разговор в шутку, — у вас есть недостаток принимать все серьезно, даже признание кузины, которая хотела пошутить над вами. Ха, ха! Кузен, весь раскрасневшийся, взволнованный, как же вы мало меня знаете! Стоило мне взглянуть в глаза, и вы поняли бы, что я просто хотела подразнить вас немного. Дайте мне руку и будем дружны, как брат с сестрой; будьте уверены, что я испепелившегося прошлого больше трогать не стану.
Она сказала это так естественно, свободно, мягко, что даже Вацлав поверил великой актрисе; а между тем в сердце ее бушевало желание мести, и созидались планы будущности.
«Я тронула струны, — думала она, — звучат еще, — звучат не порванные. Я вызову из них звуки, поддразнивая его ревностью и равнодушием… О, я отомщу за унижение и равнодушие и ему, и той, которая смеет бороться со мною».
Она обернулась и подбежала легко и свободно к входящему Фарурею.
Старый любезник, несмотря на желание показаться молодым и показать, что поездка эта нисколько не тяжела, был бледен, разбит, дрожал и страдал очевидно. Он собирал силы сладко улыбнуться и подал великолепные цветы, которыми Цеся стала восхищаться. Но едва выговорив несколько французских слов, приготовленных еще в дороге, и отыскав глазами кресло, он упал на него, уже не имея силы держаться на ногах. Цеся на этот раз, казалось, ничего не видела, кроме Фарурея, она подсела к нему, взглянула в его погасшие и слезливые глаза и стала шептать, оживляя старичишку тысячью кокетливых уловок. Фарурей схватил поданную ему ручку в свои холодные и еще дрожащие от усталости руки, и остаток молодости пробудился в нем на минуту, и он забыл о своих страданиях.
Цеся стала разыгрывать роль равнодушной и возбуждать ревность, которая должна была привлечь к ней Вацлава; она знала или предчувствовала, что в бедном человеческом сердце и то даже, что покинуто, но находится в руках другого, возбуждает чувство зависти. Не имея возможности притворяться плененной другими достоинствами своего нареченного, она старалась придать цену его французскому остроумию и образованию, приобретенному опытом; она восхищалась каждой остротой, каждым его словом, вызывала их, увеличивала им цену и искренно старалась быть занятой Фа-руреем. Невозможно изобразить счастья, радости и восторга, в какие привело старика такое необыкновенное обращение Цеси. Видно было, что в эту минуту он кинул бы к ногам очаровательной девушки свою жизнь, имя и все сокровища. Графиня уже заметила это и смело решила рассчитывать на это.
Ей хотелось еще беглым взглядом убедиться, какое она произвела впечатление своей новой стратегией на Вацлава, но Вацлав исчез.
Он тихонько вышел из дома и отправился в Вульки. Почему такой печальный, почему взволнованный, почему так глубоко затронутый за живое и мысленно повторяющий весь разговор свой с Цесей?.. Я не знаю. Может быть, потому, что всегда мы слабы и жалки, что никогда ни один из нас долее минуты не был истинным человеком.
Прощание в Вульках было коротко и печально. Франя, не скрывая своих слез, плакала; Бжозовская с досады, что, как она говорила, жениха пускают на четыре ветра, начинала сжимать кулаки и по своей привычке ежеминутно пожимать плечами; но это не мешало ей думать о своей провизии для дороги. Между прочим, она хотела непременно дать Вацлаву кадочку свежего масла, уверяя, что в Варшаве людей кормят салом с разной дрянью, что отравляет; несколько десятков фунтов свежей соломы и т. п.
Ротмистр был печален, он торопил и удерживал, хотел, чтобы Вацлав ехал, и откладывал прощание и самый отъезд: выпрашивал часок и еще часок, словно боялся расстаться с ним и не верил в его возвращение. Наконец однажды, когда долее нельзя уже было откладывать отъезда, проводил он Вацлава на крыльцо, обнял, благословил его отечески и сказал растроганный, чтобы незаметно стереть слезы:
— Ну, ну, будет этого бабства, сударь мой, где же это видано: ведь мы мужчины. Но возвращайся же скорее, сударь, ваше сиятельство; мы здесь станем тоскливо ждать тебя, высматривать. И пиши, пиши часто: станем и посылать на почту каждую неделю. Грицко уж готов. Возвращайся же, мой любезный друг.
Вацлав обнимал всех по очереди и начинал снова, и оглядывался, и шептал; но наконец надо было расстаться, и когда он сел в бричку, Франя, не оглядываясь, быстро убежала в свою комнату.
Последними словами Бжозовской были:
— Все потеряли головы, сумасшедшие: этот захотел, тот послушался… Так, так, прекрасно, а теперь будут тосковать, плакать и сохнуть. Но коли меня не слушаются, ничто им, пусть помучаются.
И, ломая руки, она полетела за Франей.
Вацлав ехал, совершенно не думая о Цесе и Дендерове; в голове у него были только Вульки и Франя. Как дорога эта, вторая в его жизни, была не похожа на первую, когда он, еще бедный, ехал в Житков за убегающим от него куском хлеба, с печальной, слабой надеждой на будущее и гнетущим недостатком… Отчего же теперь он, более спокойный, более счастливый, был совершенно иным человеком. Свет уже менее возбуждал в нем любопытство, свет для него был уже не так прекрасен и привлекателен, а только шумен и тесен; люди, с которыми уже не надо ему было бороться, не манили его к себе, они едва не надоедали ему; и он был, по крайней мере, равнодушен к ним.