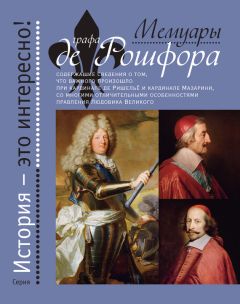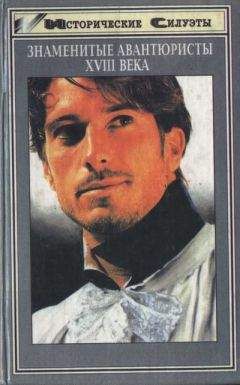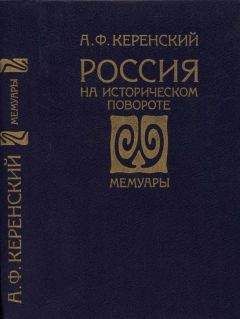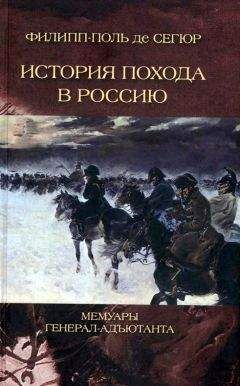Гасьен Куртиль де Сандра - Мемуары M. L. C. D. R.
Я уже не раз слышал о тех поступках господина де Ривароля, из-за которых он нажил себе врагов, но, видя, как он старается ради меня и как честно поступает, я неустанно всем говорил, что ему просто не везет, ведь более порядочного человека не сыскать. И впрямь, чтобы переменить мнение о человеке, дотоле делавшем тебе только добро, нужны веские причины. И таковые нашлись. Когда я в указанное время посетил Сен-Жермен и разыскал маркиза, тот сказал, будто бы сам подавлен последними новостями: господин де Сен-Пуанж, узнав, что Монтескью оставил чин, отдал его роту старшему сыну господина графа де Гранпре, племяннику генерал-лейтенанта Жуайёза, и сам он, Ривароль, не осмелился возражать, дабы не поссориться с этим семейством; но он очень расстроен из-за случившегося — и если освободится еще какая-нибудь рота, то он приложит все усилия, чтобы туда не назначали капитана без его ведома. Я заметил, что он не столь искренен, как хотел показаться, покинул его без обычных изъявлений дружбы и отправился на поиски Монтескью, который специально прибыл ко двору для сдачи должности. Едва я завел разговор об этой истории, как он ответил:
«Обычные штуки господина де Ривароля! Я не хотел вам, упрямцу, говорить, на что он способен, — вы бы не поверили; зато теперь уж сами знаете, какой это негодяй. Спросите у Клозеля, его бывшего подполковника — он сейчас служит в кавалерийском Полку Герцога капитаном: года два назад Ривароль отправил его в отпуск, а сам, пока тот отдыхал, доложил ко двору, что он-де не вернется, и продал его чин за тысячу экю. Впрочем, дело не сошло ему с рук: Клозель пожаловался генералам, и те заставили Ривароля отдать ему эту сумму; да, именно так: Клозель предпочел прежней должности деньги, так как не желал больше служить под началом подлеца. Что до меня, — продолжал Монтескью, — мне плевать на его козни: или моя рота перейдет к вашему племяннику, или ее не получит никто! Господин де Сен-Пуанж не сможет распоряжаться ею, пока моя отставка не будет принята, а я, если потребуется, дойду до Короля и не думаю, что тот оставит это мошенничество без последствий».
Признаюсь, я очень обрадовался его словам, так как стремился расквитаться с маркизом де Риваролем и получил бы истинное удовольствие, если бы это мне удалось. Еще более я воспрял духом, когда Монтескью отправился вместе со мной к господину де Сен-Пуанжу и сказал: странно, что тот заранее распоряжается его должностью; он, Монтескью, всегда достойно служил Королю и ни в чем не навлек на себя упрека, — с того времени, как он на службе, его рота на хорошем счету, можно сказать, одна из лучших в армии. Если у него и возникло желание уволиться, это не значит, что он вправе дурно обойтись с теми, кто заплатил ему денег за роту, — он уже получил десять тысяч экю и, по справедливости, должен возвратить их, если сделка не состоится; но, к удовлетворению Короля, уже есть договоренность с моим племянником о сумме, устроившей обе стороны, и он готов выполнить свое обещание, но пока не может уйти в отставку, ибо чин, кажется, продан дважды из-за мошенничества маркиза де Ривароля. Господин де Сен-Пуанж сильно удивился, ибо маркиз де Ривароль заверил его, будто бы капитан доволен, что рота достанется маркизу де Гранпре. Но, будучи другом господина де Жуайёза, замолвившего словечко за собственного племянника, он ответил: пусть Монтескью решает скорее — ничего уже не изменить, подписано назначение другого человека, и капитану все равно придется уволиться. Действительно, пресловутое назначение лежало у него на столе, и он показал его, чтобы мы не сомневались. Однако капитан решительно возразил: ему-де безразлично, подписано оно или нет: Король сделал этот подарок господину де Гранпре, поскольку он, Монтескью, заявил, будто покидает службу, — теперь же все переменилось: он решил сохранить за собой капитанский чин и в подтверждение сего намерен вернуться в полк. Господин де Сен-Пуанж, не привыкший, чтобы с ним говорили столь дерзко, побагровел от негодования и вскричал: раз уж капитан остается служить и господин де Гранпре не получит роту, то ее не дождется и мой племянник; пусть Монтескью теперь учтет: впредь ему лучше не допускать ни малейшего промаха, ибо за ним будут внимательно следить. С этими словами он порвал назначение на куски и бросил на пол — это убедило нас, что все слухи о нем были правдой: если уж он берется отстаивать чьи-нибудь интересы, то отдается этому со всей страстью; без сомнения, вспышка его гнева была искренней, без оглядки на господина де Жуайёза. Между тем Монтескью, оставшийся на службе назло ему, явил печальный пример того, что от собственной судьбы никуда не уйдешь, — он погиб в следующей немецкой кампании. Так-то маркиз де Ривароль отплатил его отцу, оказавшему ему немало услуг: тот чего только не делал для облегчения его страданий, когда маркиза, которому ядром оторвало ногу под Пучсердой, отправили на лечение в Тулузу — и даже приводил ему самых красивых женщин в городе, когда убедился, что общение с ними не повредит его здоровью; но маркиз, даже будучи в таком состоянии, когда пристало думать о душе, а не собирать сплетни о ближних, не преминул обнаружить дурные черты своего характера. Он принялся скверно отзываться о своих армейских товарищах, в том числе о Мадайяне{399}, достойном человеке, имевшем приятелей в его полку. Эти-то приятели и рассказали ему о наветах маркиза де Ривароля, и Мадайян нарочно возвратился из Парижа с ним расквитаться. Эта история весьма забавна; приехав, Мадайян вызвал его на дуэль, даже не узнав сперва, способен ли тот сражаться. Человека, который пришел передать вызов, маркиз принял, лежа в постели, где провел уже недель шесть, — ведь после ранения пушечным ядром быстро не вылечишься — и он прохворал еще шесть недель. Однако, притворившись, будто намерен дать Мадайяну удовлетворение, он ответил, что сегодня принял лекарство и не может выйти, однако надеется подняться уже на следующий день и известит Мадайяна о месте поединка и выбранном оружии. Получив такой ответ, Мадайян был раздосадован, что остаток этого дня предстоит провести в напрасных ожиданиях, но назавтра ранним утром его слуги, ничего не знавшие о происходящем, доложили, что в прихожей сидит некто, упомянувший имя маркиза де Ривароля. Не сомневаясь, что речь пойдет о предстоящем поединке, Мадайян велел впустить гостя и оставить их наедине. Но пришедший, вместо того, чтобы приблизиться к его ложу, подошел к столу и разложил там какие-то вещи, которые скрывал под плащом, — и Мадайян, услышав странные звуки и отдернув полог кровати, с удивлением увидел полный набор хирургических инструментов. Уже думая, не ослышался ли, он стал расспрашивать гостя, нет ли здесь ошибки и действительно ли тот явился от маркиза де Ривароля. Да, — отвечал тот, — все верно: именно маркиз попросил его прийти сюда, чтобы перед дуэлью отрезать ногу его противнику, ибо не считает справедливым, чтобы тот сражался с ним, имея физическое преимущество; он, маркиз, еще не оправился от раны, полученной при Пучсерде, и не настолько обезумел, чтобы, будучи искалеченным, противостоять человеку, у которого все части тела на месте, — посему и предлагает противнику либо самому каким-либо способом избавиться от одной ноги, либо воспользоваться для этого услугами присланного хирурга. Гость, произнесший эту речь, и вправду оказался хирургом, и Мадайян, боясь, что, если даст волю гневу, то над ним станут насмехаться, велел ему забрать свои приспособления и убираться. Впрочем, он не смог сохранить это происшествие в тайне — маркиз де Ривароль с удовольствием раструбил о случившемся повсюду, и, поскольку отныне уже нельзя было скрывать их ссору, уполномоченный маршальского суда воспретил противникам дуэль и заставил их обняться в знак примирения. После этого рассказа нетрудно было понять, что я, успевший хорошо узнать этого человека, вряд ли сумею споспешествовать моему другу в его деле, но тот, памятуя о проявленной мною доброте, решил из-за пресловутой истории не отказываться от моей помощи. С другой стороны, он заручился поддержкой некоего лица, не столь враждебно настроенного к маркизу де Риваролю, и попросил, дабы не прибегать к крайним мерам, посодействовать в справедливом разрешении их спора или же, если тот не захочет стать судьей лично, назначить вместо себя другого человека, им самим выбранного. Но правосудие, которого добивался для него маркиз де Ривароль, сводилось к потере всех его прав, и ему ничего не оставалось, как судиться с ним, несмотря на всю свою досаду. Пока я и остальные его знакомые были заняты поисками знакомых среди судей, некто заверил его, будто бы не стоит тревожиться за судейский вердикт: найдутся и ходатаи, и влиятельные покровители, и притом получше, чем у Ривароля; не станет вмешиваться и маркиз де Лувуа — на это можно точно рассчитывать. Мой друг все это мне передал, ибо сомневался в правдивости такой новости, — тот, кто ее принес, отказался себя назвать, — а в ответ на настойчивые просьбы моего приятеля, утверждавшего, что осведомленность придаст ему храбрости, ответил так: пусть-де довольствуется тем, что не брошен в беде, он же делает так, как ему приказано. Я терялся в догадках, кто бы мог оказать ему такую поддержку, — ибо, хотя неприязнь к маркизу де Риваролю питали многие, но я не знал никого, кто имел бы столько влиятельных заступников. Можно было лишь робко предположить, что это маркиз де Карман, полковник Лангедокского полка{400}, ненавидевший его больше всех.