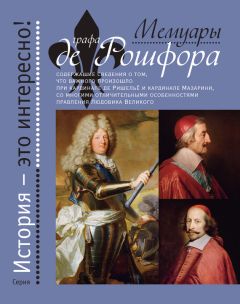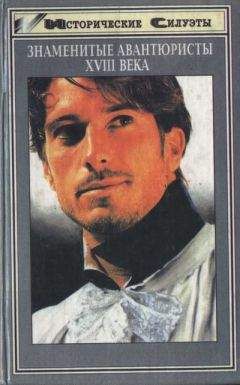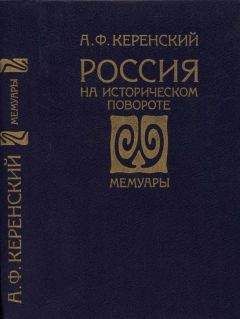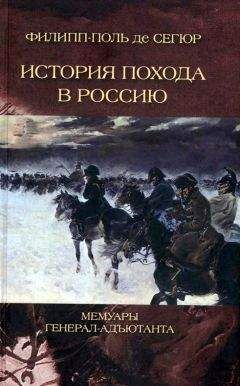Гасьен Куртиль де Сандра - Мемуары M. L. C. D. R.
«Подать ему прошение», — ответил я с вызовом, недовольный его грубостью.
«Ну что ж, — продолжал он прежним тоном, — я тот, кого вы ищете. Но помните, в следующий раз надо лучше выбирать время, когда идете разговаривать с судьей».
Беседа вышла любезней некуда, но поскольку та тяжба не имела для меня большого значения и мне было все равно, будет ли она выиграна или нет, я не смог сдержаться и ответил ему в том же духе: вот посмеялся бы кто, если б нас услышал, — точно в комедии. Меж тем, пока мы с ним соревновались в колкостях, я не забыл отдать ему мое прошение, и когда он соизволил пробежать его глазами и прочел мое имя, то сразу переменился в лице и манерах. Он начал расспрашивать, из какой я семьи и не состою ли в родстве с таким-то, происходящим оттуда-то и занимающим такую-то должность. Это для меня явилось новостью, и, хотя я неплохо знал звания и титулы своей родни, просто, чтобы поскорее покончить с разговором, начинавшим меня тяготить, ответил: да, так оно и есть. При этих словах он обнял меня, воскликнул, что мы, оказывается, родственники, и принялся пересказывать мне всю свою генеалогию, в которой я, как ни силился, так ничего и не понял. Закончил он тем, что объявил меня своим кузеном и предупредил, чтобы я никому не рассказывал о нашем родстве до окончания процесса, ибо если это станет известно противной стороне, то его отстранят от дела. Я ответил, что учту это, и мы расстались лучшими друзьями; спустя четыре-пять дней состоялись слушания, хотя обычно судебная волокита затягивалась гораздо дольше, и не видать бы мне успешного завершения дела, не обрети я вдруг нежданного покровителя в лице советника Машо.
Вот, заговорив о господине де Отфоре, я незаметно для себя перешел к истории, которую и не думал вспоминать, а о браке господина Дофина, — событии уж наверное куда более интересном, — позабыл. По крайней мере, это в моде, ибо всегда приятно услышать о людях более высокого звания. Итак, невеста{386} приехала в Сермез{387}, и Король, который уже достиг с господином Дофином Шалона{388}, решил встретить ее на полпути. Наставника Монсеньора, господина епископа Кондомского{389}, он, не выдавая своих истинных намерений, отправил вперед — якобы поприветствовать принцессу от имени жениха, в действительности же — убедиться, настолько ли она надменна, как утверждали. Кто-то доложил ему, что ее нрав далек от духа французов, нации самой учтивой и благонравной среди всех прочих, так что те, кому ей предстоит повиноваться, легко могут вызвать в ней неприязнь. Епископ получил приказ, буде заметит за нею этот недостаток, мягко внушить ей, что, коль скоро французские обычаи весьма отличаются от немецких, ей надлежит как можно скорее перенять их, дабы понравиться не только Королю и своему мужу, но и всему королевству, где она уже снискала уважение тем, что слыла самой умной принцессой Европы. Но, возвратившись, тот передал Королю, что его уроков не понадобилось: кроме того что принцесса склонна к уединению, нет никого учтивее и благонравнее ее. Вполне довольный, чего могло и не случиться, получи он дурные известия, Король выехал из Шалона на два лье ей навстречу. Мадам Дофина, не дожидаясь, пока он покинет свой экипаж, чтобы приветствовать ее, первой вышла из кареты, и Король, видя, что она идет к нему, тоже сошел на землю, а за ним следовал Монсеньор, хотя и на приличном расстоянии. Это было заранее продумано, и никто не сомневался: так или иначе последнее слово останется за истинным хозяином положения. Как бы то ни было, Король некоторое время побеседовал с Мадам Дофиной, которая низко поклонилась ему, затем представил ей Монсеньора и сопровождавших его важных особ. Поскольку это первое свидание, состоявшееся в дороге, не могло продолжаться долее, присутствующие собрались в путь, и Король, пригласив мадам Дофину в свой экипаж, усадил ее рядом с собой. Монсеньор, дабы не оставлять невесту, поместился в той же карете у дверцы, и процессия прибыла в Шалон, где состоялась церемония бракосочетания. Король приставил к невесте герцогиню Ришельё — дамы более искусной в придворных делах он не знал во всем королевстве, и потому ради такого случая даже забрал ее от государыни. Все нашли это странным, ибо считали ее переход на службу к Мадам Дофине без каких бы то ни было иных назначений скорее понижением, нежели отличием. Но сама она была слишком умна, чтобы так думать, и, ценя королевское доверие более своей должности, очень старалась расположить к себе новую госпожу, чтобы тем самым заслужить расположение Короля, — и, преуспев в этом, доказала, что для женщины благоразумной и воспитанной не существует никаких преград.
Король не задержался в Шалоне надолго — в Виллер-Котре{390} его с нетерпением ожидала Королева, для которой желание увидеть супругу своего дорогого сына превращало каждый час в вечность. Государь тоже почел своим долгом предоставить ей это право — не теряя по дороге времени, он прибыл в Виллер-Котре, где должны были начаться всевозможные торжества. Несмотря на пост{391}, был приготовлен бал, ибо нельзя было удержаться от ликования, видя, как престолонаследник столь могущественной державы женится на принцессе, известной своими большими достоинствами. Так прошло две недели, и Король отправился туда, где он обычно жил{392}.
Не могу не привести здесь пример собственной одержимости — иначе не назовешь мою тягу к придворной жизни. Я тоже находился в Виллер-Котре, пока там был Король, и моей платой за это удовольствие были вынужденные ночлеги на соломе. Ведь этот городок неспособен вместить и десятой части тех, кто приехал на празднество, так что многие нашли себе пристанище за два лье от него, а другие разбили в его окрестностях лагерь, словно в военное время. За эти ужасные ночи я так измучился, что накануне отъезда встал совсем больным и не смог ехать верхом. Один из танцоров балета, сжалившись, предложил мне свое место в карете, если я взамен уступлю ему коня, — лучшего и желать было нельзя, и я был полон признательности, когда услышал это. Но, коль скоро я оказался в густой толпе всех танцоров королевства, мне поневоле пришлось слушать их докучную болтовню; а впрочем, это все же было лучше, нежели езда верхом. Стояла скверная погода, и мы тащились еле-еле, но в довершение всех бед наш экипаж опрокинулся, да еще в непролазную грязь, так что вытаскивать его пришлось целых полдня. Нужно было идти за подмогой в близлежащую деревню — невозможно вообразить, как обозлился я, и без того падавший от изнеможения. Мы выехали даже раньше Короля, но это приключение задержало нас настолько, что он оставил нас далеко позади. Проезжая мимо, он послал разузнать, кто же там бредет по такому месиву, а когда его посланец доложил, что это танцоры, рассмеялся и сказал: хорошо, что они, а не кто-нибудь другой, ведь у них крепкие ноги, они прекрасно прыгают и танцуют, — хотя сомнительно, что на таком театре они смогут танцевать как следует. Об этом нам рассказал служитель королевского гардероба, родственник одного из тех, с кем я ехал. Хотя обычно принято выражать восхищение замечаниями Короля, но в тот раз мы не последовали примеру остальных, ибо были слишком раздосадованы случившимся, чтобы веселиться. Наконец, набравшись терпения и приведя шесть лошадей, чтобы вытянуть нашу карету, мы смогли выбраться. Так как все мы были французы и по своему складу недолго унывали из-за приключившейся неприятности, то, прибыв в Санлис{393}, уже думали лишь о добром ужине; нам подали превосходное вино, и вот, подкрепившись, мы отправились спать.
На следующий день наше путешествие завершилось и, возвратившись домой, я увидел, что меня ожидает один господин, с которым мне как-то раз довелось совершить путешествие более длинное, но все же менее тягостное. Тогда я еще служил господину кардиналу Ришельё, и тот однажды поручил мне отвезти письмо губернатору Лангедока герцогу де Монморанси. На обратном пути на почтовой станции в Дофинэ мне дали такую дурную кобылу, что, даже если б меня живьем колесовали, это было бы сущей безделицей по сравнению с тем, что мне довелось претерпеть от нее. Лучше мне было бы взять лошадь почтальона или даже идти пешком. Но, полагая, что с помощью шпор мне удастся с ней сладить, я устал так, как никогда в жизни. Пока я мучился с ней, почтовый служащий ускакал вперед, — я был так зол, что он хотел держаться от меня подальше, чтобы не попасть под горячую руку. Я же, в отчаянии спешившись посреди дороги, повел лошадь в поводу, но столкнулся с другой бедой — она так упиралась, что едва не оторвала мне руку. Тогда я пустил упрямицу вперед, однако она то и дело останавливалась, а когда я ее понукал, сворачивала то вправо, то влево, вместо того, чтобы идти по дороге. Выдохшись, я снова забрался в седло, но и тут ничего не добился. Наверное, я так и не смог бы добраться до следующей почтовой станции, если бы, по счастью, не остановил носилки, где ехал тот самый человек, которого я встретил у себя, — он путешествовал с братом, увидел мою беду и, когда я спросил у путников, далеко ли до ближайшей почты, предложил мне сесть в их носилки, а брату — оседлать мою лошадь, добавив, что таким образом я сэкономлю время пути более чем вполовину. Это оказалось весьма кстати: я принял предложение и, усевшись рядом с новым знакомым, нашел в нем такого дельного собеседника, что, несмотря на смертельную усталость, был крайне рад нашему знакомству. Прибыв на станцию, мы вместе пообедали, а на другой день я опять воспользовался их носилками, чтобы добраться до Вьенна{394}, а затем и до Лиона — и поскольку не слишком торопился, то задержался в этом последнем городе на два-три дня. Этот господин, в то время постоянно недомогавший, приехал туда, чтобы получить врачебную консультацию, а брат лишь сопровождал его. Это была самая забавная консультация, какую довелось мне услышать, и я могу рассказать о ней, ибо был тогда рядом. Он сказал врачам, что пришел не за тем, чтобы узнать, что, соблюдая диету, он будет чувствовать себя лучше — ибо так они советовали всем, — но, напротив, чтобы спросить, может ли он надеяться на выздоровление, продолжая прежний образ жизни. Он любит сытную еду и женщин, не намерен отказываться ни от того, ни от другого — и если ему не станут запрещать его привычки, а пропишут какие-нибудь легкие лекарства, он готов подчиниться этим предписаниям. Услышав такие речи, врачи переглянулись и заявили в один голос: он заслуживает самого печального конца, коль скоро станет потакать своим порокам, вместо того чтобы беспрекословно следовать рекомендациям медиков. Тем не менее, они все же дали ему лекарство за плату, сказав, что было бы лучше, если бы он удерживался от разгульной жизни и иногда позволял пускать себе кровь. Но такие полумеры не спасли его от скорой кончины — уже следующей осенью бедняга отошел в мир иной. Он пользовался бенефицием, приносившим тысячу экю дохода — немалую по тем временам сумму, — и однажды вышеупомянутый брат его, желавший получить этот бенефиций, явился ко мне с просьбой составить протекцию. Я отнюдь не обладал столь большим влиянием, однако, имея честь служить у всемогущего первого министра, был довольно известен и переговорил с господином епископом Баланса{395}, от чьей епархии зависел этот бенефиций; епископ, к моей радости, удовлетворил ходатайство. С тех пор этот человек считал себя моим должником, ежегодно присылал в подарок какие-нибудь диковинки из своих краев, а когда бывал в Париже, то первым делом навещал меня. На сей раз он приехал ради тяжбы с маркизом де Риваролем, полковником королевского Пьемонтского полка{396}, одним из великих приоров братства лазаристов{397}. Именно из-за приорского достоинства и вышла распря — оба предъявляли на него права, и поскольку их приверженцы на местах не пришли к согласию, соперники готовились к процессу. Мне пришлось предупредить: я вряд ли смогу ему помочь, ведь его противник слишком силен, — и отнюдь не потому, что у маркиза де Ривароля влияния поболее, чем у любого другого, а по той причине, что он непременно привлечет на свою сторону господина маркиза де Лувуа, генерального викария братства. Гость ответил, что приехал ко мне как к старому другу, ничуть не сомневаясь, что и в этот раз сможет на меня рассчитывать, а кроме того, ищет именно моего заступничества: он-де помнит, будто я когда-то упоминал о своем близком знакомстве с господином де Риваролем. Я ответил, что действительно всегда готов помочь ему, но мне вряд ли удастся повлиять на господина де Ривароля — мы и вправду с ним прежде приятельствовали, но по некоторым причинам рассорились. Господин де Ривароль обладает множеством достоинств — он обходителен, умен, отважен, но так мелочен и жаден, что готов засудить друга из-за пяти су. Много раз в жизни он заслуживал порицания за это, но, поскольку все это меня не касалось, я бы не стал злословить, если бы он сдержал слово. И вот почему я к нему охладел. Однажды, повстречавшись со мной в Сен-Жермене, он бросился меня обнимать и, наговорив кучу любезностей, начал расспрашивать о моем племяннике, а узнав, что тот определен в Полк Короля (тогда он еще служил там), поинтересовался: а не хочется ли мне, чтобы племянник мой принял командование ротой в его, маркиза, полку? Это ничего не будет стоить: просто он недоволен одним своим капитаном и намерен сделать все возможное для его увольнения, а буде такое случится, немедленно известит меня об этом, дабы я прибег ради этого назначения к своим связям; ему же самому-де неудобно распоряжаться ротой — подумают, будто капитана он выгнал нарочно, прежде сговорившись со мной. Но если двор, ведающий армейскими назначениями, прикажет ему, — я бы лишь послужил порукой, что он всего лишь исполнил свой долг. Его обходительность не знала границ; чувствуя себя обязанным, я поблагодарил его, а затем привел племянника, которому он повторил все, что сказал мне. Однако довести это дело до конца маркиз не смог — капитан имел довольно влиятельных покровителей, чтобы избежать уготованного ему позора. Не желая, чтобы маркиз, пообещавший и не сдержавший слова, чувствовал себя в долгу передо мной, я порекомендовал племяннику, — ибо тому наскучила пехота, — купить роту в его полку. Наведя справки, нет ли кого, кто хотел бы продать таковую, и узнав, что в отставку уходит барон де Монтескью, я разыскал господина де Ривароля и сказал: племянник, в память о тогдашней доброте его, решил продолжать службу под его командованием и, не требуя безвозмездного назначения, готов купить капитанский чин — ведь господин де Монтескью продает свой, — но прежде нужно знать, как к этому отнесется сам командир полка. Тот ответил: я, верно, насмехаюсь над ним, раз заикаюсь о таких вещах, — он якобы сердит, что мой племянник нетерпелив и не дождался от него должности в полку, за которую ничего не нужно было бы платить. Но, раз уж мой племянник не очень печется о деньгах, он был бы мне премного обязан, если бы я посоветовал ему употребить их на службу с ним: они с моим племянником станут добрыми товарищами и ему не о чем будет сожалеть, — одним словом, наговорил мне кучу приятностей и пригласил отобедать. С нами обедал и его сослуживец по Авену{398}, маркиз де Трелон из семейства Мероде, женатый на маркизе де Вервен. Мы выпили по-дружески, и тот рассказал даже, что его слуга потерял по дороге сумку с пятьюстами пистолями — ее хватились только в Париже, и слуге пришлось вернуться, чтоб отобрать деньги у того, кто их нашел. Мы с племянником были довольны ходом событий, но нам не терпелось завершить дело с господином де Монтескью — я разыскал его в тот же день, и поскольку он, единственный сын в семье, получил наследство то ли в семь, то ли в восемь тысяч ливров годового дохода и хотел как можно скорее вступить в права владельца, то мы с ним все подробно обговорили, и наша сделка очень быстро состоялась. Узнав об этом, господин де Ривароль объявил, что очень рад, а в знак обязательств передо мной предложил самостоятельно ходатайствовать при дворе перед господином де Сен-Пуанжем, чье согласие требовалось для назначения племянника в этот полк, чтобы тот знал, что мой племянник поступает в его полк с его согласия, — а если я приеду в Сен-Жермен в назначенный день, то сам буду тому свидетелем.