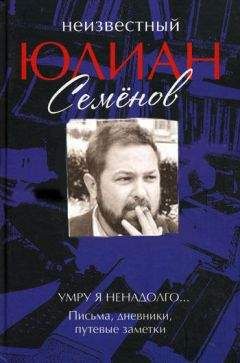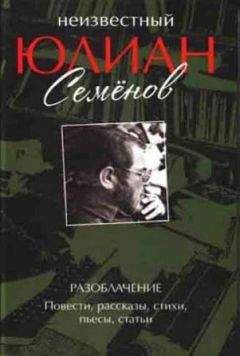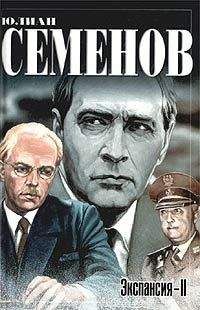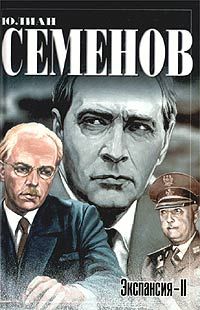Юрий Рудницкий - Сумерки
— Стой! Почему я его не убил! — крикнул Андрийко и остановил коня. — Ведь убивал я шляхтичей, перевертней, чужестранцев, заливая кровью налётчиков-грабителей, волынские и подольские сёла, не боялся ни смерти, ни ран, ни жестокости… Почему я его не убил?
Темнело. Кровавый закат заливал небо, а по земле уже стелились синие тени. Мглистые испарения поднимались над влажной почвой девственной чащи и окутывали, словно вуалью, её великанов. Вековой лес готовился ко сну. Конь тяжело хрипел от дикой скачки по кремнистым песчаным или болотистым тропам и то и дело оглядывался на всадника, который нащупал свою шапку, надел её и, сидя в седле, не мигая, смотрел на залитую кровавым заревом дорогу и синие тени.
«Почему я его не убил? — всё спрашивал себя Андрийка. — Гей, отомстил бы одним ударом за все беды, за все мерзкие предательства, за смерть тысяч, за слёзы миллионов, и одним ударом, одним маленьким ручейком густой, тёмной крови пьяницы… Да! Не следовало заступаться за подобного злодея, когда яд Зарембы должен был убрать его со свету. Не следовало обвинять шляхту! Они лучше послужили бы делу русского народа одной смертоносной чашей, чем я всей своей жизнью. Жизнь! Пустое жалкое прозябание! Почему я отрёкся от всего, чем пользовались товарищи, зачем блуждал по свету, получая раны и синяки, ради чего пытал людей? Ради славы и утехи пьяницы и врага, врага народа, и я за него сражался, жертвовал своим будущим, своей юностью. Конечно, я не стар, ещё молод, почти ребёнок, но душа моя отравлена ядом сомнений, злобой, жаждой мести. Моя молодость расцветает на могиле, на навозе, на падалище. Она выросла из гнили, мерзости, и её семя ядовито. «Гей, хорошо ли, сынок, что тебе удалось так глубоко проникнуть в суть великодержавных хитросплетений нашего времени? — сомневался дядя, и правильно сомневался. Ложь, себялюбие, злоба убили мою душу, изорвали в клочья доверие к богу, к земле, к людям и к собственным силам; научили за красотой, за любой улыбкой видеть расчёт, злобу и ложь; сделали неподатливым к чарам любви, к чувствам. Ах!»
Андрийко опомнился. Уставший до изнеможения конь, истомившись от долгого стояния, ущипнул его зубами за колено.
— Э, ты, дружок, верно, устал, очень устал! — сказал Андрийко и слез с коня. И только теперь увидел, что из расцарапанных шпорами боков лошади течёт кровь. Жалость к ни в чём не повинному животному охватила его сердце. Юноша погладил рукой тёплые ноздри и, вдруг прижавшись к морде лошади, заплакал…
Ему ведь было всего девятнадцать лет…
Долго-долго не мог он успокоиться, наконец, овладей собой, расседлал коня, напоил его в ближайшем ручейке— они попадались в чаще на каждом шагу — и надел на голову торбу с овсом. Сам же быстро собрал хворосту, целые кучи которого валялись под деревьями, и вскоре весёлый огонь запылал у дороги. Конь съел овёс, Андрийко спутал его и пустил пастись у ручейка, а сам улёгся у огня и, понурясь, снова погрузился в размышления. Однако их течение было уже нарушено: сначала вынужденным перерывом, потом слезами. Он снова пережил в душе те же чувства и го же возмущение, но они уже были иными. Холодная и горькая оценка помогала расчленить каждую мысль, каждое намерение, подозрение, желание.
«Я твой князь!» — сказал Свидригайло, и это была правда. Свидригайло его князь, владетель земли, которую Юрши вспахивали и будут ещё вспахивать. Не хочешь слушать, ступай прочь! Не будешь ты, будет другой! Неужто князю слушать боярина? Кто же виноват, что боярин ищет в князе святого? Если за сорванным окладом образа лишь намалёванная доска, то что же можно увидеть под великокняжеской багряницей на пьянице? Ха-ха! Он думает собственной головой, чувствует собственным сердцем и делает только то, к чему привык с малолетства, чем пропитано его существо, что требует душа.
Ни мысли, ни чувства, ни желания молодого Юрши ему не закон. Почему же такая ненависть? Ради чего мстить? Князь разрушил с таким трудом воздвигнутое здание сторонников независимости, это правда! Но для Свидригайла они такие же, как Чарторыйские, Монивндовичи, Гольшанский? У него иная душа, иное сердце, иные мысли, цели, желания, он не их сторонник, а князь. Его цель — усиление собственной власти, а не свобода а величие народа. Одно и другое — враги! Гей! Почему он, Андрийко, не поверил дяде, когда тот предостерегал его перед отъездом из Луцка?
…А если бы и поверил, то поехал бы не в Степань, а на Днепр, к своим сожжённым сёлам. Строить, пахать…
«Пропало всё! — твердил он про себя, тупо уставясь в огонь. Всё, что было, лишь сон, страшный, давящий кошмар — наваждение! Вся борьба за независимость — дым, вот этот серый туман, что покрывает лес. Чудится, будто за ним прячутся церкви, палаты, город, а засветит утром солнце, и окажется, что это лишь деревья, покрытые желтеющей листвой. Кто связывает народнее дело с князем или паном, тот погиб, как погибнет тот, кто становится на молитву с разбойником. Он видит в святой иконе божьего угодника, богородицу, спасителя, а разбойник — лишь золотую ризу… у Свидригайла власть, он господин над людьми, бразды правления в его руках, в руках прочих князей и боярства. И они не отдадут их народу, потому что народ для них — лишь рабочая сила, мужицкая сила, и «пся крев»… Гей! Не привыкли мы жить без владетелей, но придётся привыкнуть и к этому! А покуда мрак обволакивает будущее непроницаемой стеной. Наступает ночь…»
Тихое ржание коня снова вывело юношу из задумчивости. Он сел и стал прислушиваться.
«Туп, туп, туп!» — доносился из темноты, откуда-то с юга, топот лошади.
«Кто-то едет!» — подумал он и потянулся за мечом. Как сонное видение, промелькнули картины недавних ночлегов среди дремучих лесов, перед тем как нежданно-негаданно напасть и разгромить шляхетскую ватагу в каком-нибудь селе на пограничье. Тогда его ратники тоже спали в темноте, а он, положив руку на меч, дремал у костра начеку, весь внимание, готовый в каждую минуту сорваться, разбудить товарищей и кинуться в бой. Однако насколько иным было тогда его настроение, каким пушистым ковром, казалось, стлался перед ним жизненный путь, как ясно светилась тогда высокая цель его борьбы! А теперь?
«Туп, туп, туп!» — слышался всё ближе перестук копыт, и вот в освещённом кругу зачернел всадник.
— Слава богу! — сказал он, снимая шапку перед лежащим юношей. — Прими погреться у костра?
— Навеки слава! — ответил Андрийко. — Садись, пожалуйста!
И в то же мгновение лицо прибывшего показалось ему очень знакомым. Где-то он его видел. Правда, тогда оно было…
— Скобенко! Ты, что ли? — спросил он, когда гость, достав пищу, уселся у костра ужинать.
Гость вздрогнул и внимательно пригляделся к Андрийке.
— Ах, это ты, досточтимый боярин! — воскликнул он, а его красивое лицо залилось краской, потом дрогнули губы и в глазах сверкнули слёзы. — Гей, где то времечко, когда мы в Луцке…
Андрийко улыбнулся.
— Да, славные были времена, но и теперь, как вижу, не хуже. И бекеша на тебе боярская, и колпак, вижу, ладный, и сабля на боку. В бояре выскочил, что ли?
— В бояре. Я, Скобенко, дворянин князя Сигизмуида Кейстутовича. Наслышан и о тебе, досточтимый рыцарь, о твоих заслугах и подвигах, но полагал, что ты ещё в Луцке.
— Я был в Луцке, да вот ездил с посланием к великому князю.
— Ах! Значит, Луцк пал?
— Храни бог! Отбился.
Оба умолкли. Скобенко подкинул в огонь сухого хвороста, и костёр разгорелся с новой силой. Потом стал приглашать рыцаря разделить с ним трапезу. Природа требовала своё, и Андринко согласился. Однако разговор не клеился, и вскоре лишь потрескивание огня нарушало тишину мочи.
— Вижу, — сказал после долгой паузы Скобенко, — что ты, рыцарь, за год очень возгордился. Ни с какой стороны и не приступишься. Думал я кое о чём посоветоваться, порасспросить, а ты словно каменный! Процедишь два-три слова, и всё! А поговорить есть о чём…
— Не возгордился я, Скобенко, — ответил мягко юноша, — не гордость замкнула уста и сердце, а горе и злоба людская…
Скобенко сухо, отрывисто засмеялся.
— Гей! Разве ты, рыцарь, ещё видел настоящую людскую злобу, — вздохнув, заметил он. — Тебя никто, видать, ещё не обидел, как меня, да такому и не жить на белом свете. Я-то знаю, какая слава несётся о Юршах. А я…
И снова глаза Скобенка наполнились слезами.
— Меня-то нет, это правда, — согласился Андрийко, — но то, чему отдал я сердце, будущее, за что жизнь пожертвовал бы, спасение души: за мою землю, народ, державу святого Владимира…
— Неужто!
— Да, наши власть имущие люди опорочили мою святыню и подрубили меня, как дубок секирой. Придётся гнить среди опавших листьев на сырой земле. Весной она вновь родит разные травы и растенья, но воскресить то, что умерло, ей не дано…
— Князья опорочили? Скажи, рыцарь, князья!? — воскликнул Скобенко. — А что вы от них ждали? Они радеют только о себе, о своих родах да всячески себя ублажают, а всё прочее беспощадно топчут ногами. Государь не государь, боярин не боярин, раб не раб — всё равно! Им нет дела до того, чем живут прочие люди. Были бы только они… Ха-ха! Свидригайло посвятил вас в рыцари, а вашего дядю поставил воеводой только потому, что вы ему нужны, что приносите пользу. А на мужиков, гибнувших за своего князя, он напустил татарских князей, валашских бояричей и польскую шляхту. Одни с ним, другие не с ним, но все против мужика, все пьют его кровь, грабят его добро. Они-де хамы, и только! Вот и меня сделали боярином. Не очень-то мудрящим, а всё-таки есть боярский кафтан да шапка, сабля да лошадка, и земельные угодья, и всё положенное. А за что же? Может, я геройским поступком отличился, спас князя от смерти, подстерёг врага в засаде? Ничуть не бывало! Попросту женился…