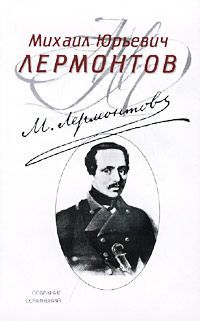Михаил Крупин - Самозванец. Кн. 1. Рай зверей
— Так ить, — протолкнулся вперед князь Хилков, — бы иному молодцу твое здоровьишко, Богдан Иаковлич! А опальный Василек тотчас повянет!
— То-то завял! — крикнул слева Воейков. — Как под плаху ворвался, каковские бревны ворочал — помост изнутри замыкал!
— Дозволь невместный вопль извергнуть, цесарь-свет! — правее выступил боярин Казарин-Дубровский, бывший на Пожаре. — Когда указ о миловании на Пожар пришел и Шуйский его выслушал, он те самые хлысты откатить как усердствовал, а не сумел — все одно высекать пришлось ход-то.
— Да ну? — удивился царь новому слову о казни.
— Ну! А так часто случается, — подтвердил князь. — Как страсть подступит — наш знатный человек весь крепнет, что ли? Раз, когда Москва горела, я супругу на руках вмиг из хором вымчал, а потом сколь раз нарочно пробовал женищу вздымать, но не мог.
— А мы от шведов раз бегем на Кольском полуострове, — влез молодой князь Щенятев, неясно с какой стороны. — Уж и мы до нашей крепостицы дочесали, и они нас, почитай, нагнали! Я ка-а-ак прыг: копьем толкнулся и через забор к своим перелетел! Потом понять не мог…
— Вот мы и подаем совет, — воротил разговор на свой круг думный князь Пронский, — ослабленного с казни человека на холодное озеро не посылать, а поселить хоть чуток ближе к родной полосе, да хоть в какую есть слободку Ярославля али Галича?
Государь не узнавал своих бояр. Один за одним, без понуждения, ступали они вперед. Говорили чеканно, раскованно.
— А пошто селить в Галичи?! — справа спрашивал напрочь прежде глухой Волк-Приимков. — Единой пользы ради — воеводой в Новгород послать!
Не будь властитель грустно озадачен лженаложницей, заставил бы себя поразмышлять царем. Но тут он разорвался просто, вскрылся со всей силой пересиливаемой пустоты — сказал душевным полушепотом, но многие услышали:
— Мои милосердные… Што ж мелочитесь, боляры? По кусочкам складаете наново истукана своего, буй-кабана… Валяй прямо: коли сажать сродника, так уж на самый престол! А в Галич я подамся — к родовым местам поближе, так ли любите?
Ближние «думцы», разом зашумев, взмахнули тяжкими мерцающими рукавами, освобождая для царя в толпе собрания тебризский ход. Дьяк Власьев зачихал громоподобно, сгибаясь в три погибели, расталкивая ферязи сосредоточенным челом.
Воин-гений
У золотой решетки Среднего крыльца стояли и беседовали юный царев стольник, почти мальчик, в белом объяре[155], и Кшиштоф Шафранец, польский часовой. Розовощекий стольник внимательно исследовал, вертя в руках, пистоли и саблю гусара — работы краковских мастеров. Почтительно простукивал кирасы, прислоненные к решетке, и взвешивал их в руках.
Стольником был Миша Скопин, потомок удельного князя Скопы, пустившего свою ветвь от родового древа Шуйских.
— А эти лыжины в седле не мешают? — спросил он Шафранца, указывая на дуги крыльев, выкованные у лат за спиной. — Неуж с ними вольготно рубиться?
— Так. Свободно, — кивал с достоинством гусар. — Но не совсем.
— Хотя… Пожалуй, сгибы-то наверху защитят голову и шею от ударов саблей сзади? — прикидывал стольник.
— Того не знаю, я покуда к врагу не поворачивал тыл, — гордился, скалился поляк. — Пан все так дробно разбирает, точно надо перенять экипировку… Или уж собрался с нами воевать? Глядит, с какого боку бить?
— Да мне всякое оборужение нравится, — просто отвечал юнец. — И воевать я со всеми хочу.
— О, да ты, друже, зух! Такая речь по моему вкусу! — медно расхохотался Шафранец и хлопнул в плечо невысокого стольника так хорошо, что тот прошел назад шага два. Но юноша вернулся, изловчился и так сердечно пхнул Шафранца, что гусар заполоскал, как орел в буре, дланями и, перелетев свой кирас, рухнул на камни.
Рыча и смеясь в одно время, Шафранец вскочил — «ах, москальска пся крев, держись!» — потянул кривую сабельку: по ветру распылю!
И Скопин с удовольствием вынул саблю — ясно, чисто зазвенела сталь. Почуяв ответную твердую руку, поляк вдруг отступил, выпрямил клинок перед собой. Поняв, и русский подошел — быстро смерили стальные полосы: от плеча до плеча — поровну, меч Скопина был вершка на два длиннее, зато рука его «на так» же короче. Снова распрыгнулись, правую ногу вперед, и пошли свистать.
Кшиштоф Шафранец, гроза всей поемной Мазовии, удивленно вспотел. Розовощекий стольник дрался выше туземных похвал. Прыгал он еще немного мешковато, в осанке и движениях не было у него пока отточенности и щеголевато-правильного артистизма, как у Кшиштофа, но он не смаргивал, как все новички, когда неподалеку от своего носа в снопе искр отбивал удар; не бегал взглядом за клинком противника, глядел ровно и неотрывно Шафранцу в глаза и видел при этом всю сражающуюся его фигуру.
«Где малый успел приучиться к мечу? — в запале недоумевал Шафранец. — В этой-то свежей земле княжьих наветов и простонародных кулаков?.. Нет, уж, видно, родился ученым!»
Скопин скоро по одному блеску глаз поляка стал заранее определять, откуда тот черкнет клинком, и начал гусара теснить. Шафранцу, еще не отошедшему с вечернего похмелья, приходилось все туже, но о сдаче он и помышлять не смел, тем более на звон зарубы шел отовсюду кремлевский народ — стрельцы, немцы, челядинцы и свои, казаки и поляки. Заживо пасть в глазах товарищей ему, непревзойденному бражнику и забияке, не виделось человеческой возможности.
Уже прижатый к позолоченной решетке, поляк свободно улыбался — в мокрых ощетиненных усах. Наконец он ухитрился, изо всей остатней дури саданул по хребтинке клинка Скопина — в пол-локте от основания. Русский клинок концом врубился в решето ворот и с отвратительным взвизгом переломился.
— Хвала, Кшиштоф! Хвала! — возликовали, тряся саблями, гусары.
Шафранец, посадив обломок стольникова палаша на свои ножны, завращав их высоко над головой, побежал триумфальный круг. Стольник стоял — чуть не плакал, жаль было дедушкиного оружия. К нему стали подходить товарищи, знакомые: каждый, видя большую печаль, утешал, брал за плечи, таскал за откидные рукава, — видно, стольника в Кремле любили. Почувствовав такое общее участие, он вовсе прикусил косо губу, зашмыгал глубже…
— Пойдем, Миша, со мной: в Ружейке любой кончар[156] сам подберешь, — кто-то разгладил на нем отогнувшийся ворот.
Стольник быстро к тому обернулся. Петр Басманов, глава Стрелецкого приказа и государева сыска, стоял, смотрел тоже любя. Узнавшие воеводу зрители, даже челядинцы и поляки, сразу заскучали, стали расходиться по делам: привяжется лешак, потянет в сокровенную избу, замучает: «Камо да на кого? Да кто? С какого ветру налетел? Промысленно али бескорыстно?»
Но Басманов ни о чем не стал пытать, повел стольника Кремлем.
— Если бы палаш не изломался, дядя Петр!.. — проговорил, уняв сопли обиды, Михаил. — Я бы сделал ляха, восторжествовал!..
— Видел, видел, — одобрил Басманов. — Ты хорошо, Миша, делаешь, что зовешь меня по-старому — дядей Петром. Не сердишься, что дальних родичей твоих малость окоротил, скажи по чести?
— Сердился было, а теперь… как приговор на Галич заменили… — смутно пожал плечами Миша. — Отец говорит: вас с государем все чествовать только должны.
— Отец говорит? А сам как разочтешь? — нахмурился было Басманов, но, заметив цвет неловкости на Мишиных щеках, забрал назад вопрос. — Ну, не буду, не буду. Знаю, вижу тебя. И на спрос не приглашал, хотя братья-разбойники не очень далекая ваша родня. Но я всегда ведал, ты, Мишук Васильич, к сволочным делам не годен. Помню, как при озорстве Хлопка, когда еще Ванька, мой брат, гинул, ты булатно себя показал! Не такие бы проворные мальцы тогда — весь Скородом от вала и до вала лег бы граблен, выжжен… Я и царю про твое смельство сказывал, да ведь он тебя прежде отметил! «Что, — спрашивает, — в старой стольничей сотне за разумник смотрит ясными глазами?» Я ему: который? А сам уж думаю: ведь с ясными глазами-то один и есть!
— Другие, значит, с пасмурными? — не польстился такой похвалой стольник.
— Не понимаешь ты! Да может — к пользе! — засмеялся Басманов, обняв на ходу за плечо, плотнее сдавив и без того плотного Скопина-Шуйского. — Царь думает нашу кисельную Думу в способный сенат перелить — на европейский и польский манер. Там и твое, Михал Васильич, будет место. А на случай войны или там смуты тоже ведаю, в ком мне опору сыскать.
Скопин задохнулся от высотной радости, задержал ее в груди золотым воздухом, удивляющим гордость, и хотел еще вдыхать.
— Конечно, не вот прямо, — поправился Басманов, испугавшись, что мальчишку унесет ветром дареной ранней высоты. — Ты, Мишутка, новому царю пока ничем не заслужил. Но не горюй: как раз ищет героя одно дельце — не страх какое жуткое, но и не маленькое… Долго мы с Дмитрием Ивановичем думали, кого благословить.