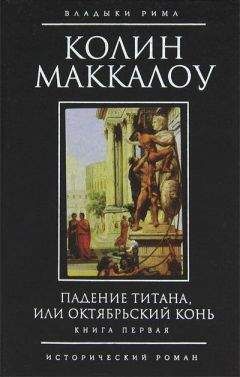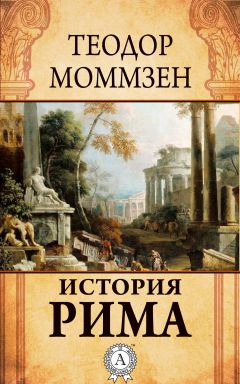Михайло Старицкий - Буря
В шинке, рассевшись на лавах и склонивши на столы отягченные головы, рейстровое знатное козачество, в луданых жупанах и распущенных шелковых поясах, не обращая внимания на бешеный гопак двух запорожцев, на целые тучи взбитой ими на глиняном полу пыли, несмотря на веселые звуки «козака», тянуло хором заунывную песню:
Ой не шуми листом, зелена діброва:
Голова козача щось–то нездорова,
Клониться од думи, плачуть карі очі,
Що і сна не знали аж чотири ночі!
Старый козак на дворище наконец наладил бандуру и, ударив шпарко по струнам, подхватил сильным грудным голосом:
Гей, татаре голомозі Розляглися на дорозі;
Ось узую тільки ноги –
Прожену вас, псів, з дороги!
Подсевшая невдалеке к красавцу козаку, блондину с синими большими глазами, черноокая Химка, не расслышавши мелодии, затянула совершенно другую, бойкую песню:
Ой був, та нема,
Та поїхав до млина…
Молодой козак пробовал зажать ей рукой рот.
— Да цыть, Химо, не мешай; не та ведь песня.
Но Хима расхохоталась и еще визгливее стала выкрикивать:
Ой був, та нема,
Поїхав на річку, —
Коли б його чорти взяли,
Поставила б свічку!
Не выдержали наконец такой какофонии козаки, вышедшие из душного шинку на прохладу.
— Да цыц, ты! Замолчи, ободранный бубен! — крикнул один из них подороднее, с откормленным брюшком и двойным подбородком, с черною как смоль чуприной, лежавшей на подбритой макушке грибком, — слушайте лучше, как добрые козаки поют.
— Кто это? — спросил у соседа бандурист, не отрывая глаз от ладов.
— Сулима, бывший полковник козачий, — ответил тот, — а теперь на хуторе сел под Переяславом, богачом дело… отпасывает (откармливает) себе брюхо подсоседками.
— Гм–гм! — промычал старый и ударил еще энергичнее по струнам.
— Да цыц же, тебе говорят! — снова крикнул Сулима.
— Начхал я на твои слова, — огрызнулся молодой блондин и снова начал что–то нашептывать Химке.
— А и правда, — поднял голову лежавший до сих пор неподвижно атлет с серебристым оселедцем, откинувшимся змеей, и разрубленным пополам носом, — что вы нам за указ, пузаны, что надели жупаны? А брысь! Мы сами вольные козаки!
— Верно, — мотнул головой и бандурист, — вы что хотите горланьте, а ты пой свое, вы что хотите, а ты им впоперек! — и, сорвавши громкий, удалой аккорд на бандуре, подгикнул:
Ну, постойте ж вы, татары,
Ось надену шаровары…
— Да что, братцы, — тряхнул молодой красавец козак своею волнистою чуприной, — правду Небаба говорит, что впоперек, у каждого глотка своя, ну, и воля своя; моя, стало быть, глотка, ну, я и горлань!
— Эх, горлань, — отвернулся с досадой Сулима, — да у кого теперь глотка своя? Теперь наши глотки у иезуитов да у польских магнатов в руках, а ты свою целиком заложил Насте–шинкарке.
— Что ты? — повернули некоторые головы с любопытством.
— А гляньте, сидит, как турецкий святой, да зевает ртом, не вольет ли кто туда горилки.
— А ты вот, разумная голова, — отозвался наш старый знакомый Кривонос, — вели–ка Насте залить ему глотку мокрухой, да и мне кстати скропи горло, потому что засуха в нем — не приведи, господи!
— Да и нам не грех! — промычали нерешительно другие. — Богатый ведь дидыч, поделиться бы след.
— Конечно! — одобрил и бандурист Небаба.
— Что, брат, зацепил? — толкнул локтем Сулиму его товарищ, — теперь не отцураешься, голота что пьявки…
Сулима только развел руками, а его товарищ пошел распорядиться в корчму.
А молодой козак нашептывал между тем Химке:
— Выйдешь ли, моя чернобровая, вечерком потешить сердце сечевика?
— Да вам же нельзя с нашею сестрой и разговаривать, не то что… — взглянула лукаво дивчына и засмеялась, отвернувшись стыдливо.
— То в Сечи, моя ягодка, а тут все можно, — и под звуки бандуры запел звонким обольстительным баритоном:
Ой я пишно уберуся,
Бо в садочку жде Маруся:
Обніму я тонкий стан –
Над панами стану пан!
Од дуба і до дуба –
Ти ж, квітка моя люба,
Нишком–тишком хоч на час
Приголуб же грішних нас!
— Ловко, ловко! — сплюнули даже некоторые козаки от удовольствия. — Эх, у Чарноты до скоромины много охоты!
XLIV
В это время появился у брамы молодой, статный козак, держа за повод взмыленного коня, и крикнул:
— Эй вы, бабье сословье! Встань которая да дай коню овса!
Химка вскочила и, вырвавшись от Чарноты, побежала сначала к хозяйке, а потом с ключами к амбару.
— Чи не Морозенко? — толкнул запорожец локтем товарища. — Мне так и кинулись в глаза его курчавые черные волосы да удалое лицо…
— Должно, взаправду он, — кивнул головою товарищ, — мне тоже как будто сдалось… Только если это он, то исхудал страшно, бедняга… должно быть, в Гетманщине не наши хлеба!{69}
— Овва! А пойти бы разведать, он ли, да порасспросить как и что?
— Конечно, пойти, — потянулся товарищ.
— Так вставай же.
— Ты пойди сначала, а я послушаю, что ты расскажешь.
— Вот, лежень! — почесал запорожец затылок и пошел сам на разведки.
Приезжий козак действительно был никто иной как Морозенко.
Он передал Чарноте про зверства Чаплинского и Комаровского, про их насилия, про свое сердечное горе. Чарнота слушал его с теплым участием и подливал в ковш молодому товарищу оковитой; но хмель не брал козака, — горе было сильнее: у Морозенка только разгорались мрачно глаза да становилось порывистее дыхание. Вокруг нового гостя собралась порядочная кучка слушателей, возмущавшихся его рассказом.
— Жироеды! Дьяволы! Кишки б им повымотать, вот что! — раздавались и учащались все крики.
— Братцы мои! — взмолился к ним Морозенко. — Помогите мне, други верные, спасите христианскую душу, дайте с этим извергом посчитаться! Ведь сколько через него, литовского ката, слез льется, так его бы самого утопить было можно в этих слезах; нет семьи, какой бы он не причинил страшной туги, нет людыны, какой бы он не искалечил, не ограбил… Помогите же, родные! Не станете жалеть: добыча будет славная, добра у него награбленного хватит вволю на всех, да и, кроме этого дьявола, найдется там клятой шляхты не мало… Потрусить будет можно.
— А что же, братцы, помочь нужно товарищу, — отозвались некоторые.
— Помочь, помочь! — подхватили другие. — И поживиться след.
— Вот тебе рука моя! — протянул обе руки взволнованный Чарнота. — Головы своей буйной не пожалею, а выручу другу невесту и аспида посажу на кол!
— Друже мой! — бросился к нему на шею Морозенко. — Рабом твоим… собакою верною… и вам, мои братцы, — задыхался он и давился словами, — только, ради бога, скорее… Каждая минута дорога… каждое мгновение может принести непоправимое горе…
— Да что? Мы хоть зараз! — подхватили хмельные головы.
— Слушай, голубе, — положил юнаку на плечо руку Чарнота, — Кривонос–батько набирает тоже ватагу… надоело ему кормить себя жданками… заскучал. Так вот ты и свою справу прилучи к нему: ведь и у него в тамошних местах есть закадычный приятель…
— Ярема–собака? Так, так! — вспыхнул от радости Морозенко и снова обнял Чарноту.
— Перевозу! Гей! — донесся в это время крик издалека, вероятнее всего, с берега Днепра. Прошла минута–другая молчания; никто не откликнулся. — Пе–ре–во-зу! — раздалось снова громче прежнего и также бесследно пропало.
— Подождешь, успеешь! — поднял было кто–то из лежавших голову да и опустил ее безмятежно.
— Пе–ре–во-зу! Па–ро–му! — надсаживался между тем без передышки отчаянный голос.
Но большинство козаков и голоты лежало уже покотом; немногие только обнимались и братались, изливаясь друг перед другом в нежных чувствах и в неизменной дружбе. Сулима с Тетерею{70} тоже челомкались и сватали, кажется, детей своих… Назойливый крик раздражил наконец пана дидыча.
— Да растолкайте кто этих лежней, — крикнул он на голоту, — ведь ждут же там на берегу.
— А пан бы потрусил сам свое чрево, — откликнулся Кривонос, — ведь откормил его здорово в своих поместьях.
— Пан? Поместьях? — вспыхнул Сулима. — Нашел чем глаза колоть, дармоед: мы трудимся и на общественной службе, и на земле.
— Только не своими руками, а кабальными, — передвинул Кривонос люльку из одного угла рта в другой.
— Брешешь!.. Кабалы у нас не слыхать.
— Заводится, — поддержал бандурист, — все значные тянутся в шляхетство, а с шляхетством и шляхетские порядки ползут.