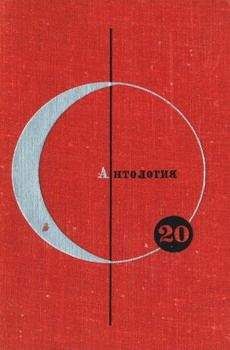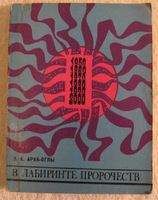Эдуард Зорин - Большое Гнездо
Свернул Одноок на обочину, глаза долу опустил. Только когда сам наехал на него Словиша, когда сам закричал: «Здорово, Одноок! Аль старого знакомца своего не признал?!» — воспрянул боярин.
Тут только и увидел боярин рядом со Словишей Звездана, заколотилось сердце — растрогался старик, подъехал ближе. Звездан тоже пришпорил своего коня, привстал на стременах, вытянув шею, вглядывался в лицо отца. Перегнувшись с седел, поздоровались они, коснувшись друг друга руками.
— Сколь уж времени прошло, а не кажешь носа ко мне на двор, — упрекнул сына Одноок.
Не хотел обижать его Звездан, отвечал невнятно:
— Служба княжеская — не ежедень пир.
— Аль и минутки свободной не выдалось?
— Так и не выдалось…
— Обижаешь меня, сын. На весь город ославил, а мне каково?
— Снова ты, батюшка, взялся за старое. Сколь раз говорено было — на твоей усадьбе я человек подневольный, а здесь — сам себе хозяин. У князя служба хоть и тяжела, а — почетна.
— Служи у князя, кто ж тебе не велит? Вона сколь боярских сынов у него в дружине.
— Однооков сын я один.
— Нешто род наш не знатен? Нешто мы хуже других?
— Род родом, а честь честью. Не вернусь я к тебе, и не проси.
Приблизившийся Словиша попытался их примирить:
— Как погляжу я на вас: вместе тошно, а розно скучно. Что снова распетушились?
Боярин отвел глаза:
— Кому скучно, да не Звездану. Никак не пойму, чем приворожил ты его, Словиша?
— Не сладким пряником, не красной девицей…
Дружинники, сдерживая коней, посмеивались издалека:
— Живем — не тужим, меды пьем — не хмелеем. Шибче уговаривай, боярин, сына…
Махнул Одноок рукой, печально тронул коня:
— Прощай, Звездан.
— Прощай. Не поминай лихом…
Разъехались. Оглянулся Одноок, не утерпел. Оглянулся и Звездан. Скрестились они взглядами — простились тихо.
Ехал Одноок в свою усадьбу без прежней радости. Думал, как встретит его конюший, как будет осаживать коня, похлопывая его по холке. Потом подержит стремя, помогая выпростать ногу, заглянет услужливо в лицо, побежит впереди, чтобы помочь на всходе. Покряхтывая, поднимется боярин на крыльцо, войдет в терем. Отдуваясь, сядет на лавку. Отрок стянет с него сапоги, ключница выставит на стол высокий жбан с холодным квасом. Всё заведено от веку, всё так и будет впредь. Ничего не изменится в жизни Одноока, и с утра всё потечет своим чередом…
Да чередом ли? Да тем ли же заведенным порядком?.. Ой, не хитри, боярин, зря себя не успокаивай. Не забудешь ты Звезданова прощального взгляда. Не привык ты, боярин, к потерям: всю жизнь всё к себе да к себе. А тут оторвалась родиночка, покатилась во чисто поле — не поймать. Никаким золотом не вернуть, не соблазнить никакими посулами.
Когда умирала жена у Одноока, он локотков не кусал, рук не заламывал, — ждал кончины спокойно. Сам же в могилу ее свел; заказав богатую домовину жалел, что потратился, но не потратиться все равно не мог — боялся наговоров: и так прошла о нем худая молва. А сына отрывал от себя с мясом. Кажется, поступился бы и заветным ларем — ничего не пожалел бы, чтобы снова видеть его в своем терему…
Но снова солгал себе Одноок. Ларем-то он бы не поступился: для того ли всю жизнь складывал в него ногату к ногате, гривну к гривне — серебром ли, золотом ли?..
У заветного ларя только и отмякало Однооково сердце.
Остановился боярский конь перед могучими, красной медью обитыми воротами. Отроки спрыгнули, распахнули тяжелые створы. Хозяйским глазом окинул боярин свой двор: всё ли ладно? Всё ли на прежних местах?..
Ничего не скроется от его взгляда. С коня далеко глядит Одноок, спешиваться не торопится.
Конюший суетливо подсеменил к нему — не слишком ли поспешно? Глаза прячет под бровями — почто?
Нахмурился Одноок, покашлял в кулак, огляделся по сторонам. У ключницы, стоявшей возле подклета, подкосились ноги.
— Подь сюды, — не слезая с коня, подозвал ее боярин.
Не сразу подбежала ключница, замешкалась — и это приметил Одноок. Не по себе ему сделалось.
— Ты сюды, сюды на меня гляди, — сурово сказал боярин.
Всплеснула руками ключница, но ослушаться побоялась, встала у самого седла. Глаза у нее красные, руки дергают за концы старенький убрусец.
— Что затаила, старая? Почто на меня не глядишь?
— Беда, боярин…
Вот оно — не обмануло вещее.
— Да что случилось-то, что? — заволновался Одноок.
— Жеребеночек, твой любименький, Сажарка-то… — пустила слезу, бестолково суетясь, ключница.
— Дура баба, быстрей сказывай.
Конюший смотрел на боярина с ужасом.
— Сажарка-то ножки переломал… Кончается…
— Ты?! — вскинул на конюшего побелевшие глаза Одноок.
— Прости, боярин. Верно, недоглядел… Резвой был жеребеночек, — забормотал конюший обреченно и отступил от коня.
— Убью! — завопил Одноок, вскидывая плеть. Со свистом рассек воздух. Ударил еще раз, еще — до конюшего не достал, рассвирепел сильнее прежнего. Куда и степенность делась, откуда резвость взялась: спрыгнул с коня, вразвалку зашагал по двору. Конюший с ключницей шли поодаль, боясь приблизиться.
— Где? Где? — выспрашивал, полуоборачиваясь, боярин.
— В яму угодил, — торопливо говорила ключница, едва поспевая за мужиками. — Как пошла я за мучицей, только за угол — а он тут, совсем рядышком. Лежит, како робеночек, гривкой встряхивает, глядит жалостливо. Глазищи-то — во… Страшно стало.
— Не виноваты мы, боярин, — оправдывался конюший. — То мужики яму не на месте вырыли. Резвился Сажарка да в яму ту и угодил…
— Не, — сказала ключница, — яму на месте вырыли, сам боярин велел.
— Ты помолчи, — одернул ее конюший. — То, что я сказываю, — правда. А тебе все со страху померещилось. Не на месте вырыли яму. Всё мужички, от них и беда… от них и беда…
— Самим глядеть надо было. С вас и спросится, — оборвал их боярин. — Добрых кровей был Сажарка, и ты, старый кобель, за него в полном ответе…
«Эко дни наладились — один к другому, — думал боярин. — А за Сажарку спрошу строго».
Мечтал Одноок обзавестись таким конем, чтобы все во Владимире ахнули. Хотел он Словишу посрамить, хотел по улицам проехаться всем на зависть и удивление. Да за такого коня ему бы большие деньги дали, такого коня и князю не совестно показать. Не всё ездить боярину по гостям на худенькой кобылице…
А теперь подыхал Сажарка, и сердце Одноока обливалось кровью. За что же напасть-то такая? Когда грех взял на душу? Почто чужие дворы обходит беда, а у его ворот завсегда стоит на страже?..
Последнее дыхание отлетало от жеребенка, красным затухающим глазом смотрел он на боярина, будто прощался с ним по-человечьи, печально.
— Ах ты, что за беда такая, — покачал головою Одноок. Смахнул с ресницы слезу, огляделся беспомощно. И тотчас оживилось его лицо, вдруг исказилось нестерпимой яростью.
— По миру пустить меня хотите? — закричал он, наступая на столпившихся вокруг дворовых. — Радуетесь?!
— Не гневись, батюшка, — кинулась к его ногам ключница. — Будь милосерд. Не вели казнить конюшего.
— Прости, батюшка, — упал на колени конюший. Недавно еще говорил он мужикам: «Наш-то боярин — за курицу не пожалеет голову с любого снять», а теперь сам просил у него пощады.
Размахнулся, ударил Одноок конюшего плетью по голове, бил еще — ногами — по лицу, по впалой груди. Хрипел, задыхаясь от злобы.
— А вы куды глядите? — набросился он на дворовых. — Почто стоите, будто все с ним заодно? Али сами плети захотели?..
Нехотя стали пинать мужики обмякшее тело конюшего. От стонов его оживлялись, били сильнее и тоже — озлобясь. На боярина оглядывались — доволен ли?
На всю оставшуюся ночь лишился сна Одноок. Жалко ему было себя до слез. Вздыхал и охал боярин, молился пресвятой богородице, просил у нее заступничества, не жалел посулов. Свечку пудовую обещался поставить в церкви Успения, нищих и убогих кормить и привечать на своем дворе.
Утром слабости своей устрашился, подумал, что и обыкновенной свечи за благоденствие и мир в терему его хватит сполна. Ежели супротив каждой беды ставить пудовую, то и со всех бортей воску не наскрести…
Глава третья
Давно дня этого ждал Звездан, давно к нему готовился. Пришел как-то утром Словиша и сказал:
— Ступай. Князь тебя кличет.
Не было у Звездана второй, поновее, однорядки для такого случая, в шапке повылез ворс, сапоги поистрепались, краска повытерлась на носах.
— Ничего, — успокоил его Словиша. — Была бы голова на плечах, а прочее — дело наживное.
Дал бы он ему свою одежку, но все равно была она Звездану велика — и ростом помене, и в плечах поуже своего старшего товарища был молодой дружинник.