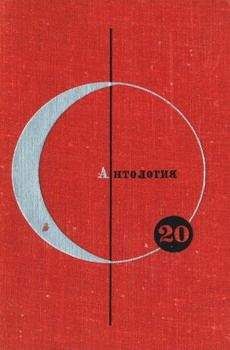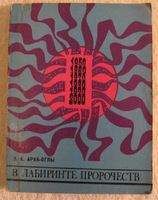Эдуард Зорин - Большое Гнездо
Поближе к деревне услышал Одноок на полях непонятный шум и бабьи стенанья.
— Нешто помер кто? — равнодушно спросил он отроков.
Те тоже прислушивались, привставали на стременах. Один из них поторопил коня плеточкой, выехал на пригорок. Постоял там, потом развернулся, подъехал к боярину.
— Батюшка боярин, кажись, в деревне беда.
— Да что стряслось-то?
— Издаля не разглядишь, а только сдается мне, крик не напрасный…
Забеспокоившись, Одноок дернул поводья — конь побежал шибче. На склоне к реке, за плетнями, начинались огороды. От огородов к мосткам бежали мужики, размахивая кольями. Не видя боярина, кричали, разевая обросшие волосами рты. Издали все они были на одно лицо. Вот передние призадержались, набычились, сшиблись с теми, что были позади. Гвалт, треск, вопли.
Отроки вырвались вперед, врезались на конях в бушующую толпу, замахали плетками. Часть мужиков отпрянула, кинулась в воду. Двое парней сворачивали за спину руки третьему, другие пинали его ногами, стараясь угодить в лицо.
Чуя беду, Одноок подъехал, прикрикнул на дерущихся:
— Эй, кто тут за главного?
Из толпы выкатился неказистый мужичок, сдернул шапку, обнажая плешивую голову.
— Кто таков?
— Староста я… Колосей.
— Куды глядишь, Колосей? Почто боярина не встречаешь?
У Колосея лицо перекосилось от страха.
— Батюшка боярин, — упал он ему в ноги. — На оплошку нашу не гневись, а вели слово молвить.
— Говори.
— Ждали мы тебя, хлебом-солью встречали. Бабы, ребятишки малые тож… Вышли за околицу, а тут енти — с кольями да засапожниками. Беда. Еле отбились, а попа, окаянные, прирезали. Сунулся он со крестом, а его в ту самую пору ножичком и полоснули… Кончается поп, положили его на паперти. Худо.
Староста обернулся к лежавшему на земле окровавленному мужику:
— Вот ентот и полоснул… Куды с ним вожжаться? Конобея, боярина соседского, холоп. Тихой был, в гости к нам из-за реки хаживал, за девку нашу сватался… Ишь, как глазищами-то стрижет — злой, ровно гадюка. Кусается…
Холодея сердцем, Одноок резко оборвал Колосея:
— Из конобеевских, говоришь?
— Холоп-то? — заморгал выгоревшими ресницами староста.
— Убивец — из конобеевских, спрашиваю, что ли?
— Из конобеевских, из чьих же еще, — подтвердил староста.
Боярин спешился, отдал поводья отроку, шагнул в расступившуюся толпу. Окровавленный мужик попытался встать, но ноги не держали его — висел на вытянутых руках, запрокинув лицо, глядел затравленно, как подраненный волк. Дышал тяжело, со всхлипом.
Одноок склонился над ним, черенком плети тронул за подбородок. Налитая злобой толпа сомкнулась снова, за спиной боярина слышались голоса:
— Чо глядеть, в реку его — пущай ершей кормит.
— Душегубец!..
— Нехристь поганой.
— Житья в деревне не стало… Днесь всю рожь за болоньей потоптали. Бабы в лес по ягоды ходить опасаются…
— Защити, боярин.
— Заступись..
«Сучий сын Конбоей, — подумал Одноок. — Эка чего выдумал…» Был он в сильном волнении, вспомнил, как ходил сватать Звездана, как поссорился с боярином. Однако, на что уж сам был он коварен, а от Конобея такого не ожидал. «Не будь я Однооком, — рассуждал он, выходя из толпы и садясь на коня, — если за ущерб и разорение не поплатится Конобей!»
— Погодь-ко, боярин, — остановил его староста. — Про мужичка-то ничего нам не сказал. В реку его али как?
— В реку сунуть недолго, завсегда успеется. А покуда заприте его в погребе. Да зорко стеречь, дабы не утек.
— У нас не утечет, — заверил Колосей и велел тащить мужика в деревню.
Толпа побежала в гору за отъехавшим боярином.
Перво-наперво направил своего коня Одноок к церкви — взглянуть на попа.
Бабы встретили его у паперти громкими причитаниями:
— Отдышался батюшка, помер… Отнесли его в избу. Плачут все, матушка шибко убивается…
Поп лежал в горнице на столе — длинный и бескровный. Одноок перекрестился, постоял возле покойника. Чувствуя, что кружится голова, вышел на свежий воздух.
Мужики сидели на лавочке перед поповой избой, возбужденно обсуждали случившееся. Сплевывали себе под ноги, крестились, вздыхали. Не замечая стоящего на крыльце боярина, говорили смело:
— Конобей-то из чужих, ему всё едино. А нам и от свово лихо.
— Жаден Одноок. За потоптанную-то землицу небось с нас же и взыщет…
— Куды податься, где правду искать?
— Чья сильнее, та и правее…
— Тише вы, Колосей идет.
— Не попу бы — был он доброй и беззлобивой, — а Колосею ножик под ребро.
— Как же. Когда схватились с соседскими, дык он сбоку. А как приехал боярин — напереди всех оказался.
— Кшить вы! Холоп на холопа послух, аль того не знаете?
Только тут заметили мужики боярина. Стоит себе в тенечке, краем уха к разговору прислушивается. Слышал не слышал, бог весть, а от греха подальше стали мужики помаленьку разбегаться в разные стороны.
— Ну, погодите, — сквозь зубы выдавил Одноок. — Ужо доберусь я и до вас. Ужо попрыгаете.
— Иди-ко сюды, — подозвал он остановившегося на почтительном расстоянии старосту.
Колосей приблизился, встал на нижнюю приступочку крыльца, взгляд боится поднять на боярина.
— Ты тут потряси кой-кого, повыспрашивай: у себя ли Конобей?
— Не, — сказал староста. — Конобея здесь нет. У него Ивач, тиун зловредный, всему заправщик.
— А тебе-то отколь знать?
— Свекор мой в ихней деревне. Он и сказывал.
— А что же, у Ивача у того две головы, что ли?
— Отчего же? Голова у него одна, а — забубенная…
«Ничего, — подумал Одноок о Конобее. — За тиуна не спрячешься. Ко князю пойду — всё наружу вылезет».
Бессонной была ночь в Потяжницах. Крепко расстроился боярин — до самого утра мучился животом. Выбегал на зады избы, сидя в укромном местечке, тоскливо поглядывал на звезды. Жалко ему было вытоптанной землицы, щемила протяжная боль в груди: сколь кадей ржи осенью-то недосчитаешься… Отвернулось от Одноока переменчивое счастье. С той поры, как посмеялся над ним Веселица, прохода не стало ему на улице: всяк, кому не лень, кинет камень, в долг перестали брать, резы помене пошли, прибытку почти никакого. А ежели и Конобею спустить, то завтра он не то что землю вытопчет — все леса порубит вокруг… Мягко стлал, да жестко спать. А еще мечтал породниться — хорошего свата пустил бы к себе на двор. Благо, пресвятая богородица уберегла, свершиться злу не дала, надоумила…
Сидел Одноок в укромном местечке, глядел на небо, слал проклятия на Конобееву голову.
Утром велел он старосте привести убивца:
— Очухался?
Мужик еще не твердо держался на ногах, но глядел осмысленно. Ветхая сермяга на нем была вся в запекшейся крови, под глазом темнел синяк, на голове кожа содрана с волосами, свисает грязным лоскутом.
— А разукрасили тебя мои потяжинцы, — подначил его Одноок.
— Ничо, — сказал обретший голос мужик. — Брат брату головой в уплату. За то мне ответ держать.
Набычился боярин:
— Дерзишь, раб!
— Тебя, боярин, гневить не хочу, — повинился мужик. — Да не я всему, что было, виной. Не по своей воле за реку шел, тебе ведомо.
— Отколь же мне ведомо?
— Колосей небось все рассказал.
— Колосей-то рассказал, да от тебя слышать хощу…
— Вот те хрест, не хотел я убивать попа, — запинаясь, стал оправдываться мужик. — А мне што? Мне ничего. Поп тут ни при чем… Невеста у меня в Потяжницах, девка справная — нынче мне ее не видать. А попа бить я не хотел, сам под руку подвернулся — ножичек-то не ему назначен. Тут он с крестом. В драке разве разберешь?.. Эх-ха, пропала моя головушка. То ведомо, боярин, ты меня не пощадишь, на волю не пустишь. А я мужик смирной. Ей-ей, не хотел за реку ходить. И рожь я не зорил… А тут бес попутал. Ивач тако сказывал: не пойдешь, я тебя сгною. Строг наш тиун, зело строг. И pyка у него тяжелая, ох, тяжелая… А я чо? Я ничо. Что хошь, делай, твоя воля, боярин…
— Нынче ласково ты запел, — сказал Одноок. — А вчера насмерть бился с моими мужиками…
— Дык оно ведомо. Кому ж охота? Коли не я, дык они бы меня — кольями-то. Сам видел. А дружки мои за реку утекли — их не догнать…
Лишние разговоры — пустая суета. Подумав, решил Одноок везти мужика с собою во Владимир, там Конобею его предъявит, а ежели понадобится, то и князю. Всеволод вспыльчив, но справедлив — спуску Конобею не даст. То-то попляшет боярин, когда кликнут ответ держать. Чужой беде хорошо смеяться, посмейся своей…
3— Здравствуй, Конобей.
— Здрав будь, Одноок.
— Почто в терем не кличешь? Али гость незван? — у Одноока в прищуре глаз поблескивали лукавые искринки. Кожух на нем праздничный, широкий пояс вышит золотыми нитями, сапоги новые — с загнутыми носами, с серебряными кисточками на голенищах.