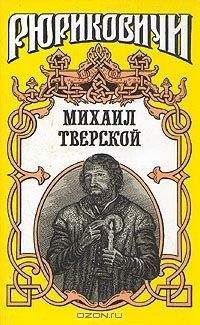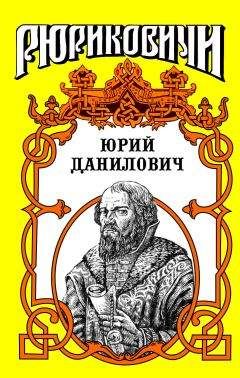Андрей Косёнкин - Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи
Одно утешает: может быть, тем и велик наш народ, что в простодушии не осознает и величия. Хотя досадно, конечно, оттого, что и малой выгоды не умеем использовать от своего превосходства ни в чем, с полным безразличием отдавая те выгоды кому ни попадя. Впрочем, тогда, как и ныне, ни о каком величии, ни о каком превосходстве, кроме извечного превосходства русских над другими-то народами в умении ждать и терпеть, и думать не приходилось.
Дмитрий о том и не думал. Подобно великому своему батюшке Михаилу Ярославичу об одном мучительно думал Дмитрий: как вернуть великодушным, отважным и гордым русским утраченное достоинство?
Кто бы и что ни говорил ныне и после, но, приняв на себя сокрушительный удар беспощадной Чингизовой мощи, Русь прикрыла собой весь остальной христианский мир от гибельного нашествия. И за то поплатились. Однако милосерд Господь! Достоинством и крепостью духа, знать, на многие, вовсе непомерные для иных испытания столь щедро наделил он русский народ, что и татары, почти убив, втоптав его в землю, так и не смогли преклонить до конца, до той бесовской черты, когда земное зеркало народной души, отражающее в себе лик Господень, аки солнце затмевается напрочь иным черным ликом. Чисто осталось зеркало! Верил в то и Михаил Ярославич, и сын его Дмитрий. И думали об одном: как научить свой народ открыто взглянуть в то зеркало божеской сути, что сияет в каждой душе, дабы вновь обрести утраченное.
Увидев воочию силу татарского царства, Дмитрий еще более был поражен мужеством отца, пусть в дальнем загаде, однако твердо мечтавшего сразиться с Ордой, при этом даже в смирении находившего оплот незыблемой вере в торжество Божией правды.
Впрочем, в отцовы-то времена, во времена правления предшественника Узбека хана Тохты, Орда не была так безгранично сильна. Как раз тогда Чингизовы устои расшатывались и сотрясались внутренними раздорами. На те раздоры, по смерти Тохты вспыхнувшие особенно жарким и злобным огнем междоусобицы, и рассчитывал Михаил Ярославич. Да не оправдались его расчеты. Явив удивительную для своего возраста (а было ему в ту пору семнадцать лет) незаурядную хватку и жестокость, воцарившийся Узбек, как умелый наездник смиряет взбесившегося жеребца, кровью обуздал Степь. Не нарушив древних заветов Чингизова Джасака, провозглашавшего татар первыми среди людей на земле, он еще крепче сплотил Орду всеподчиняющей верой в единого Бога. Имя Аллаха воссияло над бескрайними просторами ханства. Чем сильнее был страх перед Узбеком, тем вернее на вечные времена входила в души магумеданская вера. И пусть в уклончивых умах разбросанных по степи кочевников имя Небесного Властелина, требовавшего обращения к себе на чужом арабском наречии, еще не стало безоговорочно свято, свято было для них имя земного бога — великого хана Узбека, столь же недостижимого и непостижимого в своей мудрости и величии, как тот Аллах в небесах. И это покуда вполне устраивало Узбека.
К тридцати годам он достиг небывалой высоты царственного величия. Уже тогда беспристрастные путешественники, в разных землях видавшие многих правителей, называли его одним из тех семи царевичей, которые суть величайшие и могущественные цари мира. Двор окружил Узбека такими почестями, коих до него не видал, пожалуй, ни один ордынский правитель. Называли его не иначе, как ильханом, столпом дома Чингисхана, а то и императором, на латинский обычай.
Лучи его милости были столь же нестерпимы, как беспощадны стрелы гнева. Истинно, для простого смертного предстать пред глаза лучезарного хана было так же несбыточно, да и опасно, как приблизиться к солнцу и вернуться на землю неопаленным. Да и для великих мира сего, разумеется, было лучше никогда не подпасть под внимание его непроницаемых глаз. Затейлив был на каверзы хан.
Дмитрий был подавлен не только видимой мощью Узбекова царства, но и той изощренной восточной хитростью, с какой хан умел еще более возвеличить ту мощь, придавая собственной власти воистину божественное значение.
И действительно, издали представлялось, что Узбек не только, подобно Аллаху, всемогущ и всевидящ, но, подобно Аллаху же, милосерден и справедлив. Во всяком случае, те обиды, притеснения, преступления, что случались во дни его царствования и без коих, разумеется, не может обойтись власть ни в одном государстве, в умах его подданных чудесным и странным образом отчуждались от имени хана. Хотя и странного в том было мало — ведь об этом неусыпно заботился сам Узбек. Считалось, что все неурядицы, несправедливости внутри Орды происходили лишь по вине ханских врагов или нерадивости его слуг. Считалось также, что те нерадивые слуги из страха собственного разоблачения зачастую скрывали от хана истинное положение дел. Считалось, что, ежели хан узнает о злоупотреблениях чиновников, мздоимстве, неправедном суде, иных нарушениях, он тут же накажет виновных. Случалось, что и наказывал. И даже достаточно часто. Срубленные головы преступников, как и те Кавгадыевы кишки, размотанные прилюдно во искупление Михайловой смерти, вернее и доходчивей всего доказывали царскую любовь к справедливости. При этом и милосердие его не подвергалось сомнению — ведь только тот, кто казнит, может миловать. Словом, верили люди хану. А Узбек — действительной мудрости человек — все делал для того, чтобы крепить эту веру. Недостижимый в том близком, но недоступном, как небо дворце, точно сам Аллах, царил он над смертными, проникая в дела их и помыслы.
Однако так уж хитро было заведено в Сарае устройство управления делами огромной империи, во всяком случае со стороны выглядело это именно так, что ни к одному сомнительному решению какого-либо насущного вопроса сам Узбек отношения не имел. Во-первых, при Узбеке существовал многочисленный и представительный Большой ханский диван. В тот диван действительно входили все Узбековы родственники, включая жен, огланы, темники, наибы отдаленных областей, знатные бек-нойоны, именитые царедворцы… Одних Узбековых родственников в том совете насчитывалось более семидесяти человек. Среди такого числа советников всегда можно было сыскать при случае виновного в той ли, иной неудаче. Впрочем, Большой совет собирался достаточно редко, лишь в канун каких-либо важнейших и знаменательнейших событий, чаще всего в дни свадеб, рождений, чествований и торжеств. Обыденными делами государства, войны и мира занимался так называемый Малый диван, который составляли самые высокие и приближенные к хану ордынские вельможи. Несмотря на название, число вельмож, входивших в Малый диван, Узбек опять же не очень-то ограничивал — чем больше, тем лучше. Пусть решают. Тем более мнение каждого по всякому вопросу непременно учитывалось, а в ханские ярлыки вписывались имена тех, кто отвечал за определенные решения. Вот среди них — и среди угодных всегда сыщется менее угодный — чаще всего и находили виновных в ошибках, если ошибки случались. От времени до времени головы тех вельмож служили необходимым подспорьем ханской чести, мудрости и веры народа в торжество его справедливости. Но и кроме того, держал Узбек при себе и самый ближний совет из четырех визирей. При этом двое из четверых считались первыми. Один первый визирь, по-другому беклерибек, или же князь князей, распоряжался делами войны, второй же, однако тоже первый визирь, — исключительно гражданскими заботами всего государства. Так вот, и те первые визири, не говоря уж о вторых, всегда оставались у хана в запасе на какой-нибудь вовсе непредвиденный случай… Словом, так как-то ловко было все слажено, что самому-то Узбеку, казалось, решительно нечего было делать, а потому не за что и отвечать.
И все же, как ни замысловато и потайно было построено управление государством, довольно скоро Дмитрий проник в его суть и понял — на самом-то деле всеми, всеми делами в Орде единоправно и с дотошностью старой, усердной ключницы владеет и распоряжается один человек: Гийас ад-дин Мухаммад Узбек. В его руках сосредоточилась даже не власть, но власть над властью. И даже когда сама власть, как всякая власть, обременялась грехами, он, стоявший над властью, оставался непогрешим. Не обнаруживая ни истинного лица, ни намерений во всем, а наипаче во внезапной жестокости, был хан непредсказуем, а потому и непостижим — и одним уж этим велик. Более всего трепещут люди необъяснимого, оттого с такой безоглядностью готовы поверить, как в нечто действительно высшее, в то, что не умеют себе объяснить. Знал Узбек: лишь страх да та слепая, безглазая вера в божественную, высшую суть правителя надежней всего крепят власть. Не бескрайними ордынскими землями, коих он никогда не видел, жаждал править Узбек — хотя и правил, конечно; не бесчисленной тьмой верноподданных, коих он презирал, мечтал распоряжаться — хотя и распоряжался, конечно; иные грозные, могучие и трепетные, как живое сердце в руке, стихии влекли Узбека: людской страх и людская вера. Но и они, волей Аллаха, кажется, уже были подвластны ему.