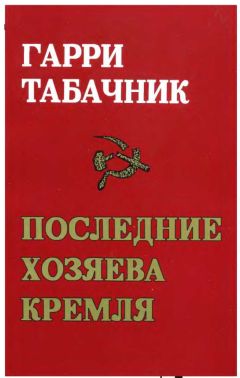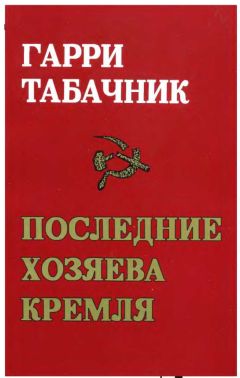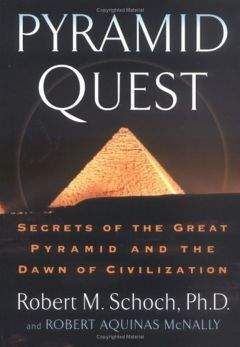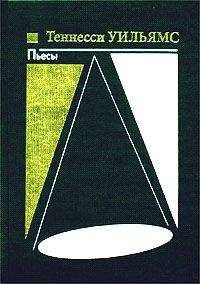Альфред Нойман - Дьявол
С восходом солнца Оливер и Даниель были уже в Париже. В одежде путешествующих купцов и с фальшивыми бородами вошли они через городские ворота, зажатые между двумя телегами с фруктами и овощами; заспанная стража даже не окликнула их. Они пошли по пустынным улицам, еще серым и влажным от утреннего тумана.
— Хороша была эта жизнь, Даниель? — спросил Оливер.
Барт раздумчиво пожал плечами.
— Да, — сказал он наконец, — во всяком случае она не была скучна, — с моей точки зрения, которая ни для кого не обязательна. Однако, когда в последний раз чувствуешь себя свободным человеком, как вот мы сейчас, мейстер, то нельзя не сказать, что жизнь хороша. А ведь вы были все-таки большим барином, мейстер.
— Я был наполовину королем, Даниель, — медленно, с улыбкой произнес Оливер.
Они молча продолжали путь. На углу улицы Барильери, у самого дворца парламента, Неккер мягко сказал:
— Друг мой, еще есть время повернуть обратно! Моя жизнь поглотила столько чужих жизней, столько любви, неужели и смерть моя должна повлечь за собою то же?! Да, — воскликнул он и остановился, — жизнь была хороша, Даниель; она знала и любовь — особую любовь, сильную любовь, такую, которая может противостоять всей ненависти мира! Клаэс и Элиза, Луиза, Анна… Анна и Людовик — и ты, мой товарищ всей жизни, моя правая рука! Спасибо тебе, Даниель! И прощай! Еще есть время повернуть назад!
Но Барт уже опередил его.
— Идемте, мейстер, — бросил он через плечо, — скоро шесть часов.
В тени портала они сняли фальшивые бороды и побросали их в водосточную канаву. Ворота были еще заперты. Они звонили, покуда не прибежали часовые. Им отперли, оглядели их; но в лицо их никто не знал. Оливер заявил, что желает видеть секретаря парламента по делу, не терпящему отлагательства. Барт вздрогнул, когда тяжелая дверь захлопнулась за ними. Неккер глянул на его побледневшее лицо.
— Есть еще время повернуть обратно, друг, — шепнул он. Но Барт лишь улыбнулся немного принужденно:
— Я теперь буду часто вспоминать о госпоже.
Они прошли в караульную комнату. Помещение было полутемное; солдаты, зевая, сидели и лежали на койках. Сонный полицейский офицер спросил имя и звание.
— Тайная полиция его величества, — сказал Неккер и показал ему какую-то монету. — Велите разбудить секретаря! — Офицер вздрогнул, и сон мигом соскочил с него. Он послал одного из своих солдат за секретарем, а сам снял со стены факел, чтобы проводить обоих пришельцев во внутренние покои дворца. Но, обернувшись и не без любопытства осветив их лица, офицер в ужасе отступил шага два назад; он узнал Барта. Однако он взял себя в руки и молча повел их в кабинет секретаря. Вернувшись, он закричал:
— Клянусь всеми святыми! Этот высокий — чертов пес из Сен-Клу, а тот другой, чего доброго, сам Дьявол собственной особой! Ну и ну! Вставайте, бездельники!
И офицер, сознавая всю лежащую на нем ответственность, поставил на ноги, не поднимая шума, всю дворцовую охрану, усилил караулы у ворот и незаметно оцепил часовыми комнату, в которой находились новоприбывшие.
— Теперь уж поздно пробиваться в Португалию, — сказал Неккер, вскользь улыбаясь, как только за офицером закрылась дверь, — тебя уже узнали, Даниель. Ты популярнее даже Дьявола. Ты скоро станешь достоянием легенды, Даниель, и я тоже, быть может…
Тут вбежал секретарь. По его взволнованному лицу видно было, что ему уже доложили о неожиданном посещении. Он знал в лицо Барта, но не знал Неккера. Бросив на широкоплечего великана поспешный взгляд из-под прищуренных век, он пробормотал что-то невнятное и побежал к своей конторке.
— Запротоколируйте следующее, — приказал тщедушный седовласый посетитель; и то, что он говорил как власть имеющий, а страшилище из Сен-Клу молча, покорно стояло в сторонке, заставило секретаря содрогнуться.
— Пишите, — снова сказал седой человек. — Я, Оливер Неккер из Гента, сьер Ле Мовэ…
Перо выпало из рук секретаря, лицо его посерело.
— Это… шутка? — произнес он, запинаясь. Оливер тихо засмеялся.
— У вас еще будет время и возможность все проверить, господин секретарь, — сказал он, — пишите: сьер Ле Мовэ, граф де Мелан, сеньор де Крон, де Рувре, де Сенар, комендант Сен-Клу, профос-маршал Франции и советник короля… в сопровождении управляющего моего Даниеля Барта из Гента… Пишите же, господин секретарь! — прервал он сам себя, когда перо снова запрыгало в руке чиновника, — …сим объявляю во всеобщее сведение: государь наш и христианнейший король Людовик Валуа скончался…
Перо упало на пергамент; секретарь отпрянул от него, словно оно было из раскаленного железа.
— Пишите! — властно крикнул на него Неккер. Секретарь пополз обратно к своей конторке; лицо у него было почти желтое.
— …скончался вчера утром, сентября тридцатого дня, в лоне святой римской церкви. Я, Оливер Неккер, отдаюсь вместе с управляющим моим Даниелем Бартом и со всем моим и его имуществом без всяких предварительных условий во власть Верховного суда и передаю себя и его в руки высокого и нелицеприятного правосудия…
К вечеру на Неккера и Барта надели наручники и под конвоем ста солдат в полном вооружении отвели в Луврскую башню. Прокурор объявил коменданту замка сьеру де Сен-Венан, что, в случае побега заключенных, он понесет то самое наказание, к которому они будут приговорены судом. На другой день парламентские герольды всенародно объявили на площадях о смерти короля, об образовании регентства, о разжаловании, аресте и предании суду Ле Мовэ и его управляющего, о восстановлении в должности президента Ле Буланже. В башню к заключенным доносились крики толпы. Они не могли расслышать слов и спросили часовых. Один из стражников вышел, через некоторое время вернулся и передал им, что народ кричит: «Да здравствует король! Смерть Дьяволу!» Оливер улыбнулся.
— Вот видишь, Даниель, мой сложный расчет сведен к простейшей формуле!
— Какой странный богобоязненный народ, — сказал Барт и покачал головой.
На другой день, после торжественного восстановления в должности президента Ле Буланже, начался процесс. Велся он со всей строгостью, с жесточайшей доскональностью. Понадобилось шесть дней для того, чтобы лишь собрать весь обвинительный материал и распределить его между следственными комиссиями. На седьмой день обвиняемые впервые предстали перед судом, заседавшим в главной зале, которую черные торжественные мантии окутали словно флером. Только пурпур отороченной мехом прокурорской шапки ярко горел над возвышением, где сидел обвинитель. На президентском кресле с лилиями Валуа, которое казалось особенно черным под ниспадавшим на него горностаем, сидел старый Ле Буланже; волосы и берет на ястребиной его голове давали тот же контраст белого и черного. Обвиняемые присягнули в том, что будут показывать правду, только одну правду. Ле Мовэ заявил, что он в принципе принимает на себя полную ответственность за все действия своего управляющего и просил лишь об одном: не разлучать их до оглашения приговора.
— Оливер Неккер, — спросил президент, — был ли тебе известен указ регентства о твоем разжаловании, когда ты отдался во власть суда?
— Да.
Ле Буланже поднял голову в изумлении. После паузы он продолжал:
— А мое восстановление в должности было тебе известно?
— Да, — сказал Неккер с беспокойством, — но, господин президент, углублять эти вопросы, стоящие вне связи с процессом, было бы отнюдь не в интересах государства и регентства, между тем я вынужден отвечать на них в силу данной присяги.
Судья опешил и умолк. Черные мантии заволновались, зашелестели. Обвиняемых поскорей увели; было решено по возможности избегать публичных допросов, предоставив разбор отдельных пунктов следственным комиссиям, которые должны были свои протоколы, подписанные обвиняемыми, сдавать пленуму суда.
Неккера и Барта отвели не в Лувр, а в тюрьму Консьержери[85] и рассадили по отдельным камерам. Правда, разделяла их только перегородка, не доходившая до потолка. Они не могли таким образом видеть друг друга, но могли разговаривать. Вместо прежних легких наручников их заковали в железные цепи, заканчивающиеся кольцом, надетым на левую щиколотку; а чтобы они не падали на ноги, их прикрепили к железному поясу, тесно обхватывавшему живот и тяжело давившему на бедра.
— Выдержу ли я эту пытку? — жаловался Неккер Барту.
Три месяца подряд проходила перед парламентом бесконечная вереница жалобщиков — епископов, аббатов и монахов, чиновников, купцов и крестьян, вдов и опекунов детей; этому не видно было конца, то была чудовищная симфония ненависти и жадности; целые кварталы, целые села предъявляли иски об убытках; у кого градом побило хлеб, у кого издохла корова — тот видел в этом дело рук Дьявола и предъявлял иск.