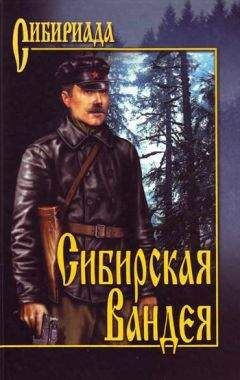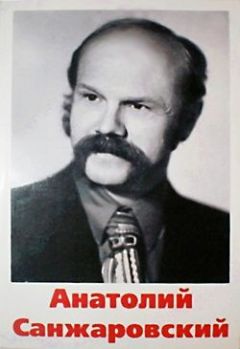Дмитрий Барчук - Сибирская трагедия
Вредная тетка! Она словно испытывала его терпение, очень дозированно, шаг за шагом, открывала перед ним семейные секреты. А еще это почему-то напоминало ему любовную игру, когда девушка долго дразнит партнера, постепенно снимая с себя одежду.
Полина и Петя уехали в Томск перед самым Новым годом, оставив меня одного встречать рождественские праздники. На людях жена сохраняла видимость семейных отношений. Оставив ребенка вместе с кормилицей в купе, она вышла со мной на перрон и даже чмокнула меня в щеку своими ледяными губами, а потом поднялась в тамбур и тихо сказала:
– Прощай!
Я бросился за ней, но поезд тронулся, и проводник, грубо отпихнув меня, закрыл дверь вагона.
На фронте Верховный правитель сильно простудился и подхватил тяжелое воспаление легких. Врачи прописали ему строгий постельный режим. Он не выходил из своего особняка на берегу Иртыша, который забрал у золотовского министерства снабжения, чем кровно обидел Ивана Иннокентьевича. За Колчаком ухаживала приехавшая к нему из Владивостока любимая женщина Анна Васильевна Тимирева[159].
Муромскому тоже нездоровилось, но он держался на ногах благодаря заботам своей жены. И даже ездил и поздравлял с Новым годом союзников.
1919‑й мы встретили с Иваном Иннокентьевичем по-холостяцки вдвоем в его гостиничном номере. Правда, Золотов уже подал прошение об отставке и имел твердое намерение вернуться в Иркутск, к жене, давно его ожидавшей. Меня же со службы никто не отпускал, но я бы все равно с нее не ушел. Из‑за упрямства и уязвленного мужского самолюбия. Не хотел признать правоту Полины.
Поздравительную телеграмму Андреевым с наступающим Рождеством я послал и успел уже получить ответную. В ней, в частности, сообщалось, что мои жена и сын доехали благополучно и радушно приняты Полиниными родными.
Бутыль самогона да нехитрая закуска составили убранство нашего новогоднего стола.
Настроение у обоих было неважнецкое. На душе у каждого скребла своя кошка, и мы не нашли лучшего занятия, как утопить нашу боль и обиду в самогоне.
– Колчак мне не верит, Пётр Афанасьевич, – жаловался Золотов. – Он считает меня социалистом и не может простить мне подписанного в Уфе соглашения с эсерами. Хотя не будь этого соглашения, не было бы Директории, и Верховного правителя тоже б не было. И жили бы мы с вами в своей Сибирской республике. Без их высокопревосходительств. Слышали бы вы, как он орал на меня: «Что же, по-вашему, Верховный правитель должен жить в маленькой проходной комнате, в частной квартире? Это же просто неприлично и небезопасно. Я приказываю завтра же очистить особняк!» Приказ есть приказ. Всю ночь собирались, но уложились в срок. А только переехали на новое место, как явился отряд милиции и все наши вещи выкинули на улицу. Оказалось, что и это помещение выделено одной иностранной миссии. А потом нам предоставили низкие и грязные комнаты в политехническом институте. И после такого отношения к стратегическому министерству он смеет требовать бесперебойного обеспечения армии! Давайте, Пётр Афанасьевич, выпьем, чтобы минули нас и царский гнев, и царская любовь!
Мы чокнулись стаканами и проглотили жгучий самогон.
– Торгово-промышленникам не нравилась моя ориентация на кооперацию, – закусив соленым огурцом, продолжил Иван Иннокентьевич. – Дескать, правительство не должно экономически поддерживать эсеровские предприятия. Мне все равно, кому отдать подряд на поставку сапог: что частникам, что кооператорам. Я руководствуюсь исключительно интересами дела. Какой поставщик надежней и предложит свой товар дешевле, тот и получает подряд. Сколько раз, Пётр Афанасьевич, мне предлагали взятки, но я всегда выпроваживал таких доброхотов ни с чем. Вот и свалили они меня. И какую мудреную комбинацию провернули. Два министерства – снабжения и продовольствия – сливаются в одно ради экономии средств. Один министр – лишний. Им оказался я. Но я не в обиде. Этих дельцов судьба еще накажет. И знаете, работа в правительстве в последнее время доставляет мне гораздо больше огорчений, чем удовлетворения. Особым честолюбием я не страдаю. А материальные блага меня никогда не прельщали, да, в сущности, я таковых и не имел. Едва ли я еще когда-нибудь жил столь плохо, как будучи министром. Я устал. Хочу домой, на свой любимый Байкал. К любимой жене. К статистическим сборникам. Я же по своей натуре все-таки исследователь, а не снабженец.
Как я понимал Золотова и как ему завидовал!
– Мне тоже противны эти озверевшие офицеры и наехавшие бюрократы, своим крючкотворством и волокитой парализующие любое живое дело! Но ведь Муромский терпит! И я не могу бросить его одного. Он – последний оплот сибирской демократии, последняя надежда на автономию нашей страны. Этот навоз не может всегда вонять наверху, когда-нибудь он должен перегнить, перепреть и уступить место молодым, здоровым побегам новой государственности, – высказался я в свое оправдание.
На что Иван Иннокентьевич ответил народной мудростью:
– Дай бог нашему теляти волка поймати.
К утру бутыль опустела. Золотов упал на нерассте-ленную кровать и захрапел. Одному мне стало скучно, и я пошел в ресторан «Кристалл-Палац», где напился в стельку с казачьими офицерами.
Проснулся я в незнакомой квартире на мягкой перине под пуховым одеялом. Металлическая кровать, на которой я лежал, стояла в простенке и была отгорожена от остального пространства занавесью, как это было принято в казачьих избах.
Стены были чисто побелены. И в горнице вкусно пахло распаренной гречневой кашей и луком.
Занавесь распахнулась, и яркий солнечный свет на миг ослепил меня.
– Проснулся, крестничек? Ну ты и мастак дрыхнуть. Почитай, целые сутки проспал, – пожурил меня полковник Вдовин и крикнул в горницу: – Маруся, гость проснулся. Давай накрывай на стол.
В комнату вплыла дородная моложавая казачка. Ее черные волосы были туго затянуты цветастым платком. Брови-стрелы и черно-синие глаза придавали ее лицу выразительность, а нос картошкой, ямочки на пухлых щеках, мягкий подбородок и полная шея наоборот сглаживали его. На вид ей было лет тридцать. В руках она держала чугунок с кашей, обхватив его вышитым полотенцем.
– Милости прошу к столу, – пропела молодица. – Вы уж извяняйте за постный стол, но до Рождества у нас скоромного не будет.
– Вот познакомься, Пётр Афанасьевич, это хозяйка моя, Маруся. Она одна – моя семья. Детей нам Бог не дал. Но я в ней, голубушке, души не чаю. Маруся мне и жена, и мать, и дочь.
Хозяйка поклонилась мне в пояс. Ее лицо просияло в улыбке, а ямочки на щеках стали еще глубже.
Я встал с кровати, отряхивая со своего костюма лебяжий пух от перины, и пробовал выдавить из себя подобие улыбки.
Вдовин представил меня жене:
– А это, Маруся, мой старый знакомый, Пётр Афанасьевич Коршунов. Человек ученый, состоит личным секретарем у самого председателя Совета министров. Только у него с женой нелады.
– Изменила, что ль? – всплеснула руками Вдовина. – Или вы ей изменили?
– Нет. Что вы! – стал оправдываться я. – Просто поссорились. Из‑за политических разногласий.
– Тады помиритесь! – заключила казачка. – Ежели с милым из‑за такой ерунды вздорить, то и на любовь времени не останется.
– Нет. Не помиримся. Она забрала сына и увезла его к родственникам в Томск.
– Ну и дура. Мужика нельзя надолго одного оставлять. Я бы своего Витюшу ни за что б не бросила. Хотя у вас, благородных, все так сложно. Баба должна сердцем жить, а не умом.
Полковник решил, что жена наговорилась, и прервал ее, спросив меня:
– Опохмеляться будешь или как?
Я колебался. Голова сильно болела, но я взял себя в руки и отказался.
– Нет. Лучше чаю.
Маруся обрадовалась и радостно закудахтала:
– Вот и правильно. От водки одно горе. Водка никого еще до добра не доводила.
Мы сели за стол. И я один за другим выпил сразу два стакана горячего чая.
– Ты давай на еду налегай. Тебе сейчас покушать нужно, – научал меня хозяин. – Ты уж извини, Пётр, что я тебя к себе домой принес. Но я не знал, где ты живешь, а оставлять тебя в таком виде в ресторане было не по-людски.
Я понял, что отныне мы с полковником стали на «ты».
Колчак скоро поправился и с присущей ему взрывной энергией принялся за строительство нового государства. Если большевики стремились все переиначить, перекроить на свой псевдореволюционный лад, то Верховный правитель впал в другую крайность. Он решил восстановить все органы власти, какие были при царе. Существовавшие прежде министерства и ведомства с их управлениями и штатными расписаниями, рассчитанные на общеимперский объем работы, воспроизводились с педантичной точностью. Только в отличие от сановного Петербурга в провинциальном Омске они выглядели карикатурно и только плодили разных присосавшихся дармоедов и укрывающихся от войны тыловиков. Серая масса этих безликих людей сползалась «на службу» часам к десяти утра, потом чаевничала, сплетничала, перекладывала бумажки из одних папок в другие, создавая видимость работы, а после полудня разбредалась по домам. Вся тяжесть экстренной государственной работы в условиях войны ложилась на энтузиастов-одиночек, с горем пополам вертевших маховик административной машины.