Станислав Блейк - Кровавые сны
— Я не привык доверяться незнакомым людям, — сказал немец после некоторого раздумья, — тем более, в этой проклятой богом стране. Хотя, с другой стороны, какой смысл вам врать?
— Абсолютно никакого, — подтвердил Феликс. — Я не прошу взять меня с собой, не убеждаю причислить меня к приближенным и оставаться далее в Москве.
— Дело в том, что в последнее время я больше обретаюсь в Рыбной слободе и живу торговлей в Поморье, на севере. Этот дом — последнее, что мне принадлежит в столице. Было время, когда я обладал боярским званием, множеством землепашцев и вотчинами, но царь давно уже отобрал их у меня, с тех самых пор, как распустил опричнину.
Феликс кивал, стараясь не пропустить ни слова. Он мог одной неверной фразой лишиться доверия Генриха. Ничего не зная о его прежней жизни, следовало быть предельно осторожным, разговаривая с этим человеком.
— Самая пора распрощаться с этим домом и этой страной, — сказал Феликс, чтобы не дать разговору затухнуть. — Вас ждут в Германии.
— Кто меня ждет? — спросил Генрих к радости ван Бролина, у которого был заготовлен ответ.
— По приезде в Нижние Земли направляйтесь в Брюссель, в замок графа Тилли, — Феликс помнил, как граф, пребывая в замке Белёй, похвалялся своими связями в Вене. — Он даст вам рекомендательные письма ко двору, возможно, даже сам отправится с вами. В Польше до сих пор еще не выбрали короля, Габсбурги претендуют на Вавельский трон, и любая…
— Вы не располагаете свежими известиями из польского королевства, — поморщился Генрих, неодобрительно глядя на Феликса. — Уже два месяца, как трансильванского князя Батория короновали в Кракове.
— Я около двух лет нахожусь в Московии, — перебил Генриха ван Бролин, боясь потерять нужное ему направление в разговоре. — Не удивительно, что в этом углу Европы, где хозяйничают медведи, я могу даже не узнать о смене понтифика на престоле святого Петра. Не стоит выспрашивать более обо мне и моей миссии. Мне нужно от вас совсем немногое, и это никак вам не повредит.
— Я слушаю, брат-иезуит, — сказал Генрих, ухмыляясь, — уж такой вы народ, что бескорыстия легче дождаться от гулящей девки, чем от вас.
— Разве твоя жизнь, Генрих фон Штаден, не стоит пары лошадей с двуколкой, мелкой кухонной дребедени, такой как чугунный котелок, лопата, простыней изо льна, да пяти рублей серебром?
В темноте, освещаемой зловещим блеском факела, Феликс придвинулся к своему собеседнику, сверкая белками глаз. Просьба, в сущности, была невелика, да и не каждый день к бывшему боярину являлись просители, говорившие по-немецки. Но все же он попробовал торговаться:
— Я говорил тебе, брат…
— Феодор. В миру Феликс фон Бролин, сын Якоба фон Бролина из Флиссингена, — подсказал он, переиначив свою фамилию на немецкий манер.
— Мое положение, брат Феодор, весьма неопределенно, как у всякого негоцианта, ведь нажитое тяжким ратным трудом имущество я вложил в торговлю. Взамен опричных списков, где я некогда состоял, меня должны были внести в списки иностранцев, да позабыли, и теперь я уже не боярин, но и не обычный германец, а просто Андрей Володимерович. Таким почетным именем зовут на Руси бояр, но нет меня и в боярских списках.
— Я прекрасно осведомлен о твоем шатком положении, Генрих, поэтому нет нужды повторять одно и то же. Ведь это я сам пришел тебя предостеречь и предложить покровительство. Ut salutas, ita salutaberis.[41]
— Мне понадобятся все лошади для скорого отъезда, — сказал бывший опричник. — Могу выделить лишь одну, да малую повозку.
— Я же сказал, что достаточно одноколки! — дело было сделано, Феликс, едва не подпрыгнул от радости, видя, как воплощается его казавшийся безумным поначалу план. Он еще раз проговорил список того, что нужно загрузить в тележку, договорился о месте за городом, вблизи Раменской церкви, где он будет ждать холопа, который приедет на столь необходимой Феликсу упряжке.
— Я могу исповедовать тебя, сын мой, — сказал Феликс под конец, желая упрочить возникшие между ним и Генрихом слабые узы. Тот, однако, отказался.
— Не подведи меня, — сказал Феликс напоследок. — В моем лице ты имеешь не только земляка, но и преданного друга. Кто знает, в каком качестве и где мы встретимся вновь? Не преврати же друга во врага, обманув мои завтрашние ожидания.
С этими словами Феликс подхватил Генриха и легко усадил его на лошадиную кормушку, которая находилась в двух аршинах от пола. Сафьяновые сапожки с серебряными скобами на каблуках замелькали у самого лица ван Бролина. Он расхохотался, весьма неприятно, потом опустил возмущенного Генриха на земляной пол, отряхнул его белый атласный кафтан, склонившись едва ли не до малинового шелкового кушака с выпущенной в два конца золотой бахромой. Все же следовало признать, что и на Руси богатые да знатные люди одевались красиво. Не вина Феликса была в том, что ему так и не довелось примерить на себя московские наряды.
— Добавишь, друг мой Генрих, тонкого полотна рубах пару штук, — не удержался Феликс, протягивая руку.
— Что? — не понял Генрих, впечатленный силой своего ночного гостя, он решил не выказывать возмущения его панибратством.
— Деньги, пожалуйста, — с покорным видом произнес Феликс, поднося ладонь еще ближе к собеседнику. — Мне нужно совершить некоторые покупки в ожидании оговоренной встречи.
— Боишься, что завтра не увидишь моей упряжки, — недобро засмеялся Генрих, — сунешься сюда, а я уже на север отъехал.
— Кто ж тебе за день цену настоящую за дом уплатит? — пожал плечами Феликс. — Никуда ты не денешься, в лучшем случае, неделя у тебя на сборы уйдет.
На это фон Штаден возражения не нашел, развязав кошель, он высыпал из него горсть серебра, из которой Феликс при свете догорающего уже факела отделил пять рублей мелочью.
— Не забудьте, Генрих, замок графа Тилли под Брюсселем, — сказал напоследок и скрылся в ночи, едва дождавшись, пока босой холоп в широких портках и длинной рубахе отопрет калитку на улицу.
Всего два дня назад Феликс нашел своего больного оспой друга, но жизнь его снова переменилась, стала деятельной и осмысленной. Состояние Габри оставалось тяжелым, но не ухудшалось, свалившаяся на голову молодуха по имени Груша тоже требовала своей доли забот и внимания. Пользуясь теплыми днями, они жили в роще за Мельничной слободой, куда за малую плату банная прибиральщица и прачка носила им состряпанную снедь в глиняном горшочке. Тренько который шел за ван Бролином и Грушей в первый день после того, как его брат стал подозревать Феликса в утайке ворованного добра, отстал после того, как Феликс поговорил с ним. Не исключено, что между Васильком и Треньком тоже состоялся разговор, после которого атаман согласился не преследовать человека, спасшего не так давно его родича. Правда, легкость, с которой шайка отказалась от Аграфены (так Груша была при крещении записана в приходской книге), казалась весьма подозрительной. Не могло быть, чтобы ее исчезновение в один день с Феликсом не связал воедино прыткий разум Василька.
Как бы то ни было, но следовало уходить из Москвы, чтобы не накликать на голову очередных несчастий. В столице государства люди были пуганными, подозрительными, недоверчивыми, мнили себя жителями третьего Рима (едва не лопаясь от гордости), и приказных дьяков, стрельцов, стражников и служивых дворян было здесь больше, чем где-либо в широкой и местами весьма малолюдной Московии.
Волнение Феликса нарастало, когда ночью и ранним утром он едва дотащил Габри до деревянной церквушки сельца Раменское. Расположенная уже за городом, среди подступающих лесов и полей, украшенная искусной резьбой церковь, созданная безвестным русским мастером, не принесла своим видом успокоения ван Бролину. Аграфена, которая шла за ними на расстоянии в несколько десятков саженей, расположилась ниже по склону, спускающемуся к реке. С утра она только однажды подошла к Феликсу, чтобы нанести на его лицо легкий слой белил. Предусмотрительная девушка, уходя из бани, забрала с собой несколько предметов женской одежды, сурьму, румяна и белила для лица. Феликс уже несколько раз кричал на нее, когда Груша приближалась слишком близко, на его взгляд, к больному. Теперь она не решалась без разрешения подойти к ним, и Феликсу ничто не мешало пытаться говорить с другом, всматриваясь с жалостью в его покрытое язвами лицо.
— Габри, слышишь меня, дорогой? — позвал он по-фламандски. — Габриэль Симонс! Пора в школу!
Но тот бродил по своим тропкам горячечных видений, не мертвый, но и не полностью живой. Волосы покидали его голову, если он выживет и не потеряет зрение, что нередко случалось с больными этой страшной заразой, подумал Феликс огорченно, красавцем его уже никто никогда не назовет.
Оставив Габри в тени старого клена, Феликс подошел к сидящей на склоне девушке, взял ее за руку, лег, положив голову ей на колени, закрыл ее ладонью свои глаза.
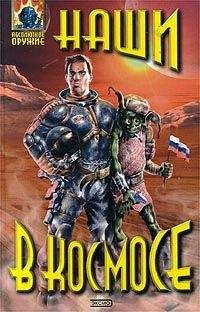
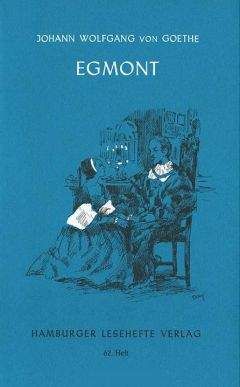


![Станислав Лем - Насморк [= Аллергия] [Katar]](/uploads/posts/books/99033/99033.jpg)