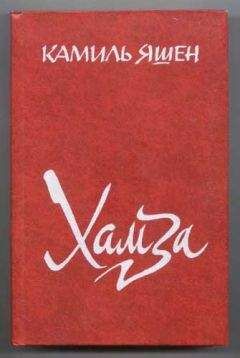Николай Энгельгардт - Павел I. Окровавленный трон
С трона поднимается император. Синий, как мертвец, он ужасен.
— C'est excellent! — говорит он сиповатым голосом. — Как он обучен!
— Ваше величество, умоляю вас, заклинаю всеми святыми, снимите оковы с моих родителей и отпустите меня с ними домой, в Оппельн! — плачет принц.
— Невозможно, милостивый государь! — отвечает император, кривясь ртом и шеей. — Невозможно! И с чего вы взяли, что это ваши родители? Ваши отец и мать, милостивый государь, мои ботфорты! Вот ваши родители! Знаете, как в казацкой песне поется? Наши сестры — пики, сабли востры! Поцелуйте мои ботфорты!
Император снимает и остается в одних подвертках. Он ставит ботфорты на трон и начинает приплясывать, потирая руки и приговаривая:
— Браво! браво! браво!
Но вдруг колоссы-гвардейцы, поддерживающие купол, приподнимают плечи. Купол трескается, рушится, падает. Адский гром… и принц просыпается с мучительно бьющимся сердцем.
В раздвинутые занавески кровати он видит, что это друг его истопник Прохоров, принес дрова, свалил их перед печкой и теперь сидит на корточках и зажигает лучинки.
— Прохор! Прохор! — зовет истопника принц.
— Так точно, ваше высочество! — отвечает истопник, оборачиваясь.
— Прохор, идите близко! — просит принц.
— Сию минуту, ваше высочество, только растопки подложу.
— Оставляйте топки. Вы гремел. Я пугалься, — со слезами на глазах говорит принц.
— Виноват, ваше высочество. Не извольте беспокоиться. Настыло очень, так я пораньше затопил. Такое здание, ваше высочество, совсем холодное здание.
— Идите близко, — повторил принц.
Прохоров подходит к кровати.
— Садитесь, — просит принц. — Говорите мне о ваш матушка и батюшка.
Прохоров садится на краешек кровати и начинает рассказывать о своей деревне, родителях, любимой сестре, о курочке, необыкновенно ноской, коте, который умеет глину есть, о том, как в овине хорошо картошки печь и с салом есть. Принц слушает и успокаивается мало-помалу.
— Я видел страшный сон, Прохор! — говорит он со вздохом.
— Страшен сон, да милостив Бог, ваше высочество! — отвечает истопник. — Вот печь растопится, обогреется кроватка ваша, и опять заснете. Я около вас посижу, песенку вам попою.
— Сидите, Прохор, сидите! — говорит принц.
И, в самом деле, истопник начинает тихонько петь длинную песню о худом киселе, — не то поет, не то приговаривает. Дрова в печи разгораются, шипят, разрываются с треском, рассыпая искры, пламя воет, и теплые лучи согревают остывшую комнату и кровать принца. Он свертывается клубочком. Ему хорошо, тепло. И под пение доброго мужика тринадцатилетний одинокий мальчик, генерал-майор и шеф драгунского полка, кавалер Мальтийского ордена, почти штатгальтер, великий князь и вице-король, принц Евгений Вюртембергский сладко засыпает и видит в утреннем легком сне кота, который умеет есть глину, хохлатую курочку и худой кисель в большом горшке, покрытом грубой самодельной крестьянской холстиной.
XVII. Белая Лилия
Собственноручной запиской императрица-тетушка по приказанию императора звала принца на концерт.
Генерала Дибича не было. Вызвался ехать с принцем в замок ротмистр фон Требра. Но ему этикет воспрещал появление при дворе и он с величайшей досадой принужден был уступить настояниям церемониймейстера и покинул принца на волю судеб у дверей концертной залы.
Уже слышались знакомые принцу звуки любимой увертюры императора, фанатического «глюкиста», из «Ифигении». И лишь только принц отворил дверь, его встретили предупреждающие «с-с-с-с!»
Опоздать к назначенному сроку в глазах Павла было преступлением; но нет правила без исключения.
«Непостижимо!» — шептали друг другу на ухо присутствующие, когда император, при виде принца, милостиво с ним поздоровался, извинился, что концерт начали без него, и пригласил занять свободное место в первом ряду кресел, возле великой княгини Елизаветы. Стул принца находился на правом фланге, который огибался в виде полукруга вторым рядом кресел; в образовавшемся тут узком пространстве очутился соседом с одной стороны великой княгини, этой Гебы Олимпа Михайловского замка, если императрица являлась на нем Юноной, прочие великие княжны и княгиня Анна — Грациями, великий князь Александр — златокудрым Фебом, а Константин — Вулканом, хотя и не хромоногим.
Елизавета сияла тихой улыбкой, и одной ей свойственным кротким приветом коралловых уст. Но воображение принца заняла другая его соседка, прехорошенькая дама с простой прической белокурых, чудных волос, убранных незабудками.
Колена принца и незнакомки, благодаря узости пространства соприкасались при всяком движении, и частые извинения со стороны принца подали первый повод к разговорам во время антрактов.
Наряд этой соседки был в высшей степени изящен; блеск ее, очевидно, фамильных драгоценностей давал повод заключить о ее знатном происхождении; а то обстоятельство, что ее драгоценности бросались в глаза не количеством, а качеством, доказывало, что вкус этой прекрасной Белой Лилии направлен был к благородной простоте. Все это принц при всей своей молодости отлично осознал и оценил, но не осмелился осведомиться ни у кого о имени незнакомки и удовлетворился наименованием царицы цветов, которое мысленно присвоил прелестной.
Незнакомка произвела на мальчика непостижимое впечатление; в какие-нибудь полчаса в груди его родилось огромное смешанное со сладкой болью таинственное чувство, и он боялся расспросами обнаружить перед другими это чувство… Как будто драгоценную чашу, полную пьянящей, чудной, живоносной влаги нес он теперь в руках своих и боялся ее расплескать. Будучи еще совершенным ребенком, принц не понимал собственных чувств, настоящие свойства которых не мог себе объяснить, несмотря на рано развитое воображение и на робость и застенчивость, которые овладевали им каждый раз при взгляде на хорошенькое женское личико.
Принц попеременно отвечал то на вопросы великой княгини Елизаветы, то на вопросы Белой Лилии, и сам спрашивал насчет старомодно костюмированных артистов, стоявших перед ними и, несмотря на их непривлекательную внешность, поражавших слух самыми восхитительными звуками.
Внезапно появилась среди этого кружка певцов величественная красавица, вошедшая под руку с мужчиной небольшого роста. Дивной игры неоценимые солитеры сверкали в ее изящных ушках. Ее ленивые движения полны были грации и неги. Оглушительные «браво» и аплодисменты императора встретили ее прежде, чем она успела издать первые ноты очаровательного голоса. То была Шевалье.
Она запела знаменитую арию Глюка:
О malheureuse Iphigénie!
Та patrie est anéantie!
Vous n'avez plus de roi
Je n'ai plus de parents!
Mélez vos cris plaintifs
A mes gémissement!
Vous n'avez plus de roi,
Je n’ai plus de parents!
О malheureuse, malheureuse Iphigénie[29]
Певица передала с истинным трагическим пафосом звуки, которые сами по себе составляли высшее проявление гения Глюка. Огромное впечатление от арии разделялось всеми бывшими в зале, начиная императором. Но принц видел только свою Белую Лилию. И когда она вдруг крепко сжала в руках веер и прекрасные глаза ее наполнились слезами, он не мог выдержать и, коснувшись ее платья, сказал:
— Что с вами? Как вы волнуетесь?
— Оставьте, — прошептала незнакомка. — Пение разнеживает мне душу! И если бы вы знали, дитя мое, какой смысл приобретают слова арии в этой обстановке!
В антракте она встала и увлекла принца в один из салонов, окружающих залу. Она попросила принести ей мороженого, но более побуждала самого его есть, сама чуть коснувшись изделий императорского кондитера. Она болтала, расспрашивала его, и принц в детском простодушии многое поверил ей такое, что ее, видимо, потревожило.
Но она не подала вида принцу и вдруг, приветливо кивнув ему и наградив самым чудным, сияющим взором и самой ласковой улыбкой, от которой сердце мальчика заныло и покатилось, встала, смешалась с толпой придворных и как в воду канула.
Напрасно потом принц искал ее, обегал все салоны, прилегавшую колоннаду, лестницу, даже заглянул в какую-то ледяную залу, наполненную белыми призраками мраморных статуй…
Прекрасная исчезла, как сновидение.
XVIII. Битва педагогов
Образ Белой Лилии вытеснил из сердца и воображения принца Евгения и Психею, и гродненскую хозяйку, и примадонну театра города Оппельна. Но в корпусе его ожидало неприятное объяснение с генералом Дибичем на другой день.
День был воскресный и принцу надлежало явиться на высочайший выход. Он собирался обновить прическу головы своей, и костюмеры ожидали его в уборной, когда в спальню вошел Дибич. Маленький щелкун весь был красен от гнева.