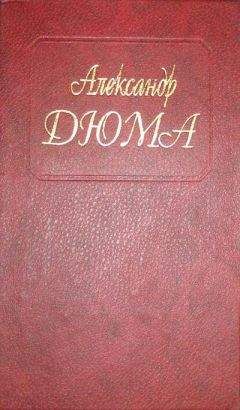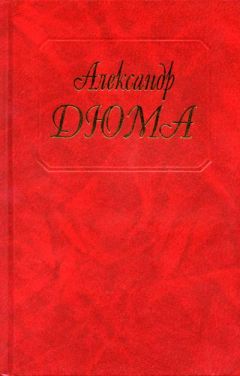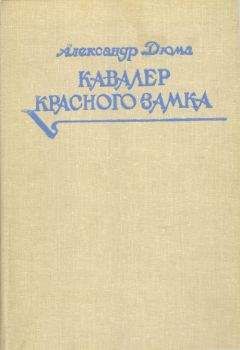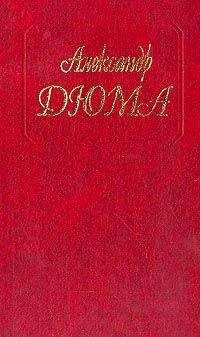Александр Дюма - Красный сфинкс
Но едва за ней закрылась дверь, как мое решение было принято: отправиться к вам, монсеньер, броситься к вашим ногам и все вам рассказать.
— Но то, что вы мне поведали, дитя мое, — сказал кардинал, — всего лишь рассказ о ваших страхах; эти страхи не грех, не преступление, а наоборот, доказательство вашей невиновности и искренности; я не вижу, почему вы должны говорить об этом на коленях и придавать своему рассказу форму исповеди.
— Дело в том, что я не все сказала вам, монсеньер. Это безразличие или скорее страх, внушаемый мне королем, я испытываю не ко всем, и я колебалась, идти ли к вам, не из-за необходимости сказать вашему высокопреосвященству: «Король меня любит», а из-за необходимости сказать: «Монсеньер, боюсь, что я люблю другого!»
— А разве любить этого другого — преступление?
— Нет, монсеньер, но опасность.
— Опасность? Почему? Ваш возраст — возраст любви, и миссия женщины, определенная природой и обществом, — любить и быть любимой.
— Но не тогда, когда тот, кого, как ей кажется, она любит, выше ее по рангу и происхождению.
— Ваше происхождение, дитя мое, более чем почтенно, и, хотя ваше имя не блещет так же ярко, как сто лет назад, оно еще может сравниться с лучшими именами Франции.
— Монсеньер, монсеньер, не поддерживайте во мне безумную, а главное — опасную надежду.
— Так вы думаете, что тот, кого вы любите, вас не любит?
— Наоборот, монсеньер, я думаю, что он меня любит; это меня и ужасает.
— Вы заметили эту любовь?
— Он мне в ней признался.
— А теперь, когда исповедь закончена, в чем состоит просьба, о которой вы мне говорили?
— Вот моя просьба, монсеньер: эта любовь короля, сколь бы нетребовательна она ни была, станет пятном с того часа, как я ее допущу, и даже с того часа, как я ее отвергну, ибо есть люди, заинтересованные в том, чтобы в эту любовь поверили; а я не хочу хоть на миг быть заподозренной тем, кто меня любит, и кого, как мне кажется, я люблю. Поэтому я прошу, монсеньер, отослать меня к отцу: какова бы ни была опасность там, она будет меньше той, что ждет меня здесь.
— Если бы я имел дело с сердцем менее чистым и менее благородным, чем ваше, я тоже присоединился бы к тем, кто, не задумываясь, хочет опорочить вашу чистоту и разбить ваше сердце, я тоже сказал бы вам: «Позвольте любить себя этому королю, который никогда ничего на свете не любил и, может быть, благодаря вам научится, наконец, любить». Я сказал бы вам: «Притворитесь сообщницей этих женщин, что трудятся ради унижения Франции, и будьте моей союзницей, ибо я желаю ее величия». Но вы не из тех, кому делают такого рода предложения. Вы хотите покинуть Францию — вы ее покинете. Вы хотите вернуться к своему отцу — я дам вам эту возможность.
— О, благодарю! — воскликнула девушка, схватив руку кардинала и целуя ее, прежде чем он успел этому воспротивиться.
— Но дорога может быть опасной.
— По-настоящему бояться, монсеньер, я должна при этом дворе, где мне угрожают таинственные и неведомые опасности, где я постоянно чувствую, как дрожит почва у меня под ногами, где невинность моего сердца и чистота моих мыслей — лишний повод погибнуть. Удалите меня от этих королев-заговорщиц от этих принцев, изображающих любовь, не испытывая ее; от этих придворных, занятых интригами от этих женщин, советующих невозможное как нечто вполне простое и естественное, от этих августейших уст, обещающих за стыд вознаграждение, которое подобает чести и верности, — удалите меня отсюда, монсеньер, и, пока Господь даст мне быть честной и чистой, я буду вам благодарна.
— Я ни в чем не могу отказать той, что просит меня по такому поводу и столь настойчиво. Встаньте; через час все будет если не готово, то, во всяком случае, почти готово для вашего отъезда.
— Вы не отпустите мне грехи, монсеньер?
— Тем, у кого нет грехов, отпущение не нужно.
— Тогда благословите меня; может быть, ваше благословение прогонит смуту из моего сердца.
— Дитя мое, руки, что простер бы над вами я, занятый мирскими делами, были бы менее чисты, чем ваше сердце, какая бы смута его ни посетила. Благословить вас надлежит Богу, а не мне, и я горячо молю, чтобы он заместил своей высшей добротой мою недостаточную любовь.
В это мгновение пробило девять часов. Ришелье подошел к бюро и позвонил.
Появился Гийемо.
— Лица, которых я ожидаю, прибыли? — спросил кардинал.
— Герцог только что вошел в картинную галерею.
— Один или с кем-то?
— С молодым человеком.
— Мадемуазель, — сказал кардинал, — прежде чем дать вам ответ — не скажу окончательный, но подробный, — мне необходимо переговорить с двумя только что прибывшими лицами. Гийемо, проводите мадемуазель де Лотрек к моей племяннице; через полчаса вы зайдете узнать, освободился ли я.
И, почтительно поклонившись мадемуазель де Лотрек, последовавшей за камердинером, он пошел отворить дверь картинной галереи, где прогуливались — правда, всего несколько минут — герцог де Монморанси и граф де Море.
VI. ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАРДИНАЛ СОЧИНЯЕТ КОМЕДИЮ БЕЗ ПОМОЩИ СВОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СОТРУДНИКОВ
Эти вельможи ждали всего несколько минут; но срочность и количество дел, обременявших кардинала, были настолько хорошо известны, что, если бы ожидание длилось дольше, прибывшие не выразили бы ни малейшего недовольства. Еще не обладая высшей властью, которой он достиг в знаменитый день, получивший в истории наименование «День одураченных», он уже считался если не фактически, то, во всяком случае, юридически первым министром; однако важно отметить, что в вопросах войны и мира он располагал лишь своей инициативой, своим голосом и превосходством своего гения; против него неизменно были ненависть обеих королев и подобие Королевского совета, собиравшегося в Люксембургском дворце под председательством кардинала де Берюля. Король вмешивался в принятые решения, одобрял или не одобрял их. На это одобрение или неодобрение основное влияние оказывали то Ришелье, то королева-мать, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик XIII.
Важным вопросом, который предстояло решить через два-три дня, была не война в Италии — это было уже решено, — а выбор того, кому будет доверено командование этой армией.
Вот об этом важном вопросе кардинал собирался переговорить с двумя вельможами — желательными для него участниками этой войны, — когда писал накануне герцогу де Монморанси, назначая встречу ему и графу де Море; однако его встреча с Изабеллой де Лотрек и интерес, внушенный ему девушкой, заставил его кое в чем изменить намерения относительно графа де Море.
Господин де Монморанси впервые увиделся с Ришелье со времени казни своего кузена де Бутвиля; но мы видели, что губернатор Лангедока сделал первый шаг навстречу кардиналу на вечере у принцессы Марии Гонзага, подойдя с поклоном к г-же де Комбале, не преминувшей рассказать дяде о столь важном факте.
Кардинал бы слишком хорошим политиком, чтобы не понять, что этот поклон племяннице был в действительности адресован дяде и что герцог предлагает ему мир.
Что касается графа де Море, то дело обстояло иначе. Не только искренность молодого человека, его чисто французский характер среди стольких характеров испанских и итальянских, его хорошо известная храбрость, много раз доказанная им в свои двадцать два года, вызывали живой интересу кардинала. Он очень хотел не только беречь его, но покровительствовать ему, помочь его счастью, ибо это был единственный сын Генриха IУ, до сих пор не принявший открытого участия в заговорах против него, кардинала. Граф де Море, свободный, уважаемый, занимающий командный пост в армии, слуга Франции, политику которой представлял герцог де Ришелье, был противовесом двум Вандомам, посаженным в тюрьму за эти заговоры.
По мнению кардинала, пора было остановить юного принца на той наклонной плоскости, где он оказался. Попав в гущу интриг Анны Австрийской и королевы-матери, готовый стать любовником г-жи де Фаржи или возобновить отношения с г-жой де Шеврез, он вскоре оказался б опутан столькими узами, что, как бы ни хотел, не смог бы от них избавиться.
Кардинал протянул г-ну де Монморанси руку (тот ответил искренним пожатием), но не позволил себе такой Непринужденности по отношению к графу де Море — человеку королевской крови, поклонившись примерно так же, как если бы перед ним был Месье.
После обмена приветствиями кардинал сказал:
— Господин герцог, когда речь шла о войне против Ла-Рошели морской войне, которую я хотел вести без помех, я купил ваше звание генерал — адмирала, заплатив названную вами цену; сегодня речь идет о том, чтобы не продать, а дать вам больше, чем я у вас взял.
— Ваше высокопреосвященство полагает, — спросил г-н Монморанси с самой приветливой улыбкой, — что, когда речь идет о службе ему и одновременно благу государства необходимо начать с обещаний, чтобы заручиться моей преданностью?