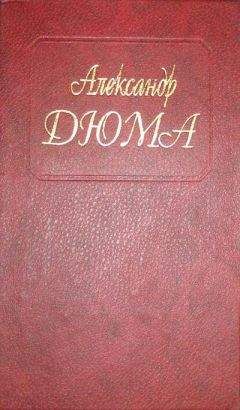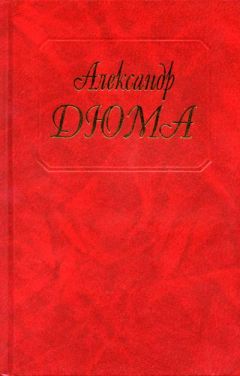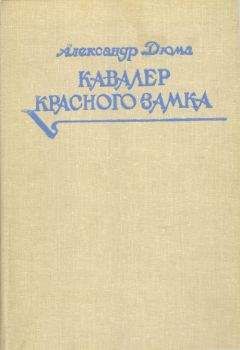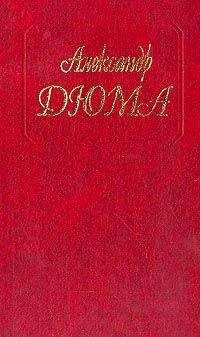Александр Дюма - Красный сфинкс
Вуаль, закрывавшая ее лицо, не помешала ему заметить, что посетительница очень испугана, и он сказал:
— Сударыня, вы желали, чтобы я вас принял; я слушаю, говорите.
И он сделал ей знак подойти ближе.
Дама сделала шаг, но, чувствуя, что ноги у нее подкашиваются, оперлась рукой о спинку стула; другую руку она прижала к груди, пытаясь унять сердцебиение.
Ее слегка откинутая назад голова свидетельствовала о спазме, вызванном то ли волнением, то ли страхом.
Кардинал был слишком хорошим наблюдателем, чтобы не понять этих признаков.
— Сударыня, — сказал он, улыбаясь, — судя по ужасу, какой я вам внушаю, можно подумать, что вы пришли ко мне от имени моих врагов. Но успокойтесь: даже если вы пришли от их имени, оказавшись у меня, вы здесь царица, словно голубка в ковчеге.
— Может быть, я и в самом деле пришла из лагеря ваших врагов, монсеньер, но я спаслась оттуда бегством, чтобы просить поддержки одновременно у священника и министра: священника умоляю выслушать мою исповедь, к министру взываю о защите.
И незнакомка молитвенно сложила руки.
— Мне не составит труда выслушать вашу исповедь, даже если вы останетесь для меня незнакомкой, но мне трудно будет защитить вас, не зная, кто вы.
— С той минуты, как вы, монсеньер, пообещали выслушать мою исповедь, у меня нет никакой причины скрывать свое имя, ибо исповедь наложит на ваши уста священную печать.
— Что ж, — сказал кардинал, садясь, — подойдите сюда, дочь моя, и прошу вас испытывать ко мне двойное доверие, ибо вы обращаетесь ко мне и как к священнику и как к министру.
Молодая женщина приблизилась к кардиналу, опустилась на колени и подняла вуаль.
Кардинал следил за ней взглядом с любопытством, Ибо понимал, что имеет дело не с обычной исповедующейся; но когда эта исповедующаяся подняла вуаль, он не смог удержаться от удивленного возгласа:
— Изабелла де Лотрек!
— Да, это я, монсеньер. Могу ли я надеяться, что это ничего не изменит в намерениях вашего высокопреосвященства?
— Можете, дитя мое, — отвечал кардинал, горячо сжав ее рук — можете! Вы дочь одного из лучших слуг Франции, и поэтому я уважаю и люблю его; с тех пор как вы при французском дворе, где я вначале встретил вас с некоторым недоверием, должен сказать, что могу лишь одобрить ваше поведение.
— Благодарю, монсеньер, вы возвращаете мне веру. Я надеялась, что ваша доброта избавит меня от двойной опасности, которой я подвергаюсь.
— Вы хотите меня о чем-то попросить или ждете от меня совета, дитя мое, но не оставайтесь на коленях, садитесь рядом со мной.
— Нет, монсеньер, позвольте мне остаться так, прошу вас. Я хочу, чтобы те признания, что мне предстоит вам сделать, носили характер исповеди, иначе они станут почти доносом, и я не смогу их произнести.
— Поступайте, как считаете нужным, дитя мое, — сказал кардинал. — Боже меня сохрани задеть чувствительность вашей совести, даже если эта чувствительность преувеличена.
— Монсеньер, когда мой отец отбывал в Италию с господином герцогом Неверским, а меня оставляли во Франции, были выставлены два довода этому: во-первых, я могу устать от долгого путешествия и, во-вторых, буду подвергаться опасности в городе, который могут осадить и взять штурмом. К тому же мне предложили место у ее величества, способное удовлетворить желания более честолюбивой девушки, чем я.
— Продолжайте; но скажите, не увидели ли вы вскоре какой-то угрозы для себя в предложенной вам должности?
— Да, монсеньер. Мне показалось, что хотят спекулировать на моей молодости и преданности моей августейшей повелительнице. Король — то ли по своей инициативе, то ли подстрекаемый чьими-то советами, похоже, стал оказывать мне внимание, какого я, разумеется, не заслуживала. Какое-то время почтение мешало мне верно оценить ухаживания его величества, тем более что из-за его робости они не выходили за пределы галантных любезностей; но в один прекрасный день мне показалось, что я должна рассказать королеве о нескольких словах, переданных мне от имени короля. Однако, к моему большому удивлению, королева рассмеялась и сказала: «Это было бы великим счастьем, милое дитя, если бы король смог влюбиться в вас». Я размышляла всю ночь над этими словами, и мне показалось, что мое пребывание при дворе и назначение в штат королевы имело другие цели, чем те, о которых говорили. Назавтра король возобновил свои ухаживания. За неделю он трижды появлялся в кружке королевы, чего раньше не бывало. Но при первом же слове, сказанном мне королем, я сделала реверанс и, сославшись на нездоровье, попросила у королевы позволения удалиться. Причина моего ухода была столь явной, что после этого вечера король не только не разговаривал больше со мной, но даже не приближался ко мне. Что касается королевы Анны, то она, похоже, была весьма недовольна моей щепетильностью; когда я у нее спросила о причинах ее охлаждения ко мне, она ответила: «Я ничего не имею против вас, если не считать сожаления, что вы могли оказать нам услугу и не оказали ее». Королева-мать была со мной еще холоднее.
— Но вы поняли, — спросил кардинал, — какого рода услугу ожидала от вас королева?
— Я смутно догадывалась об этом, монсеньер, скорее по тому, что краска невольно заливала мне лицо, нежели по откровениям моего ума. Однако, поскольку королева, хотя и без прежней благожелательности, была добра ко мне, я, не жалуясь, осталась при ней и оказывала ей все услуги, какие могла. Но вчера, монсеньер, к великому удивлению моему и обеих королев, его величество, уже более двух недель не бывавший в кружке дам, явился, никого не предупредив о своем приходе, и, вопреки обыкновению, с улыбкой на лице, поклонился супруге, поцеловал руку матери и подошел ко мне. С позволения королевы я сидела около нее и встала, увидев короля; но он предложил мне сесть и, играл с карлицей Гретхен — ее прислала своей племяннице инфанта Клара Эухения, заговорил со мной, осведомился о моем здоровье, сообщил, что на ближайшую охоту приглашает обеих королев, и спросил, буду ли я их сопровождать. Внимание, оказываемое королем женщине, было чем-то настолько необычным, что я почувствовала, как все взгляды устремились на меня и лицо мое заливает краска гораздо сильнее, чем раньше. Не знаю, что отвечала я его величеству; вернее, я не отвечала, а бормотала какие-то бессвязные слова. Я хотела встать. Король силой удержал меня. Я, ослабев, упала на стул. Чтобы скрыть свое смятение, я взяла на руки маленькую Гретхен; но она, увидев мое лицо, склоненное к полу, стала громко спрашивать: «А почему вы плачете?» И в самом деле, невольные слезы тихо бежали из моих глаз и струились по щекам. Не знаю, какое значение придал им король, но он пожал мне руку, достал из своей бонбоньерки конфеты и дал их карлице; та, рассмеявшись недобрым смехом, выскользнула из моих рук и отправилась пошептаться с королевой. Оставшись одна, я не решалась ни подняться, ни остаться на месте. Такое состояние не могло длиться долго. Я почувствовала, как кровь шумит у меня в ушах и переполняет виски; мне казалось, что мебель движется, а стены шатаются; чувствуя, что силы меня оставляют и жизнь уходит, я потеряла сознание.
Придя в себя, я увидела, что лежу на своей постели, и возле меня сидит госпожа де Фаржи.
— Госпожа де Фаржи, — повторил кардинал с улыбкой.
— Да, монсеньер.
— Продолжайте, дитя мое.
— Я бы хотела продолжать; но то, что она мне сказала, так странно, ее поздравления, обращенные ко мне, столь унизительны, ее увещания столь необычны, что я не знаю, как пересказать их вашему высокопреосвященству.
— Ну да, — сказал кардинал, — она сказала вам, что король в вас влюблен, не так ли? Она поздравила вас с тем, что вы смогли сделать с его величеством чудо, на какое оказалась неспособна сама королева, и уговаривала вас всячески поддержать эту любовь, чтобы, заняв место фаворита, дующегося на короля, вы смогли благодаря своей преданности послужить политическим интересам моих врагов.
— Ваше имя не упоминалось, монсеньер.
— Да, для первого раза это было бы слишком; но я угадал то, что она вам сказала?
— Слово в слово, монсеньер!
— И что вы ответили?
— Ничего. Я окончательно поняла то, что смутно предчувствовала при первых ухаживаниях короля: из меня хотели сделать инструмент политической борьбы. Вскоре, поскольку я все еще плакала и дрожала, пришла королева; она поцеловала меня, но этот поцелуй, вместо того чтобы утешить меня, заставил сжаться мое сердце и обдал меня холодом. Мне казалось, что какая-то злая тайна скрывается в этом поцелуе, каким супруга, а тем более королева, одаривает ту, которой угрожает любовь ее мужа, — одаривает, чтобы та поощрила эту любовь! Затем, отозвав госпожу де Фаржи в сторону, она о чем-то тихонько поговорила с ней и затем сказала мне: «Покойной ночи, милая Изабелла; подумайте обо всем, что вам скажет Фаржи, и особенно о том, что готова сделать наша признательность в обмен на вашу преданность». Она удалялась к себе в спальню; госпожа де Фаржи осталась. По ее словам, мне осталось одно — примириться с тем, что произошло, то есть уступить любви короля. Она говорила долго — а я ей не отвечала, — пытаясь втолковать мне, что такое любовь короля и сколь малым эта любовь будет довольствоваться. Очевидно, она решила, что убедила меня, ибо, тоже подарив мне поцелуй, удалилась.