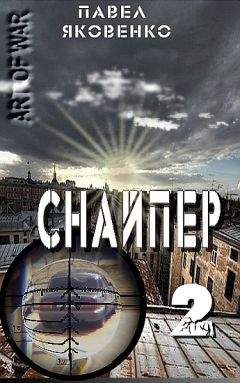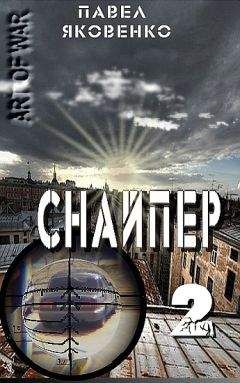Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
Встал: пот, холодный, липкий, заструился по спине и груди. Курил, руки тряслись. Налил вина, ждал, что рассосется. Но ребенок не ушел. Он так и сидел в кресле моей плоти. Лунный свет на медных кольцах; в стекле блик; все то же в зеркале, вместе со мной: ниточка дыма, стакан вина. Возможно всё — как тут не отчаяться! За все эти годы в чулане я сам стал частью картины. Я пытался не замечать в себе безграничную глубину; был лампой, в которой дрожит и бьется бабочка газа. Какая разница, кто я и куда тянется эта ниточка дыма? Назови мне имя того, кто промелькнул на платформе той безымянной станции, когда мы все вместе ехали в тот парк, где…
(С железной дороги донесся протяжный скрип.)
Что такое человеческая судьба? Паутинка, вплетенная в многослойный узор, и чем больше у человека родственников, друзей, тем плотней он связан, прочней держится, — у меня никого; иногда мне кажется, что я не существую, что я — образ, подобный тем, что напускали на себя клиенты нашего ателье (которого больше нет).
Ночь треснула стенными часами фрау Метцер, разбилась и больше не склеилась. Надо что-то искать, новую работу, новую комнату, — так до утра: то гробовая тишина, то железнодорожный стон, часы, мысли…
На несколько минут (или секунд?) провалился в бред, и там я вдруг поверил, что-то меня убедило, будто все они живы, где-то там, за пределами этой страны, которая во сне моем была огромной крепостью, стеной, внутри которой есть озеро, есть мост над рекой, и все отражаются — вот, все в этом бреду были отражениями, как деревья в пруду Schnelli, — и я верил — о, как пронзительно я верил! — стоит мне уехать отсюда, как я с ними сразу встречусь — в трамвае или в поезде увижу отца с газетой, Танечка будет сидеть рядом с мамой — они будут такими, как тогда, и мне будет семнадцать. Я очнулся с безумным намерением собираться, ехать. Снизу поднимался шум — фрау Метцер и все ее семейство ехали на неделю в Пярну, эти звуки подхлестывали (возможно, они и сколотили для меня это видение). Я поднялся вместе с грохотом их сборов; поторопился себя занять бритьем и утренним чаем, чтобы не лежать, не давить слезы в подушку, шатался по коридору, старался попадаться всем на глаза, чтобы забыться, поскорее стать привычным квартирантом, каким они меня видят каждый день, отчаянно подыгрывал всем, смыть колючей водою сон, вытеснить дымом папиросы и крепким чаем ночное наваждение: будто родители и сестренка где-то живы и думают, что это я — умер.
Стропилин стриг бороду, варил кофе, ел булочки, меня угостил. Хотел завести разговор, но я вывернулся: выдумал предлог. Ушел в Екатериненталь, и вот я на скамейке, с папиросой, головная боль переползает из левого виска в темя, чтобы двинуться дальше, захватить весь мир. Листья плавно летят в воду: каждый навстречу своему отражению. На террасе полупустого кафе тяжелые тени. Плешивый квартет в застиранных фраках кормит вялых уток — инструменты спят на лакированных стульях. Дряхлый грузовик хрюкнул и встал у подъезда, сделал лужу. Снизу с кряканьем подают, в кузове с кряхтением принимают. Дом высунул из окна тюлевый язык, откашливается чьими-то криками. Чайка переплыла небо и сгинула. Лазурный свет струится сквозь тяжелую крону каштана; люди тают в растопыренных лучах; марево над прудом и тропинкой; на разогретом воздухе, как на пленке, проступают негативы ангелоподобных существ.
Часть IV
В дверь постучали. Доктор Мозер платком вытирал испарину; без пиджака, в расстегнутой жилетке.
— Добрый день, Борис Александрович, извините, что беспокою. На пару слов…
Уронил взгляд: художник в носках.
— Да, конечно. Проходите. Чаю хотите?
— Нет, спасибо, — угрюмо сказал доктор, бочком вошел, тяжело вздыхая. — Какой чай… Жара!
— Да, жарко… — Борис топтался в замешательстве.
Доктор заметил, что он был слегка не в себе. Растрепан, рубашка навыпуск, без воротничка, брюки мятые. Посередине комнаты стоял аппарат на треножнике, направлен на распахнутый чемодан, набитый книгами, рубашками, всюду вещи, бумаги, вырезки из газет, фотокарточки…
— Собираетесь? Или работаете?
Ребров уныло улыбнулся.
— Собираюсь. Теперь наверняка. Фрау Метцер уезжает в Германию.
— Гитлер зовет, надо ехать. Понимаю.
— Да…
— Политика сильнее нас, — сказал доктор.
— Да…
— Извините, что вторгаюсь, Борис Александрович. Мне надо вам сообщить, что я зашел не просто так. Сейчас я к Рудалевым направляюсь. Вы не хотите ничего сказать вашему другу Леве?
— В каком смысле? — Борис вспомнил, что задолжал Леве и очень много. — Что? Что я должен ему сказать?
— Дело в том… — Доктор прочистил горло и сделал шаг в сторону окна. — Ну и духота… В общем, дело дрянь, на следующей неделе может быть поздно. Лучше не откладывать, я вам как врач говорю. Если хотите проститься, лучше не откладывать. Едемте прямо сейчас!
— Да, конечно, доктор, едемте!
Ребров пустился бродить по комнате… какая неожиданность… Нашел один ботинок… а где другой?.. Набросил плащ…
— На улице духота, Борис, — кисло сказал доктор.
— Да, да… но не в одной рубахе…
— Ах, да набросьте что-нибудь, машина ждет…
— Машина?
Во дворе шла торопливая загрузка вещей. Фрау Метцер руководила маленькими худенькими юношами в красных шапочках, на которых поблескивали латунные буквы: ekspress. Кузов фургона был заполнен, что-то не вмещалось. Рядом стояла легковая машина, подле нее лысый господин с тонкими усиками и мясистым подбородком. Курил, вальяжно прислонившись к дверце. Он был в легком элегантном костюме, который подчеркивал его пузо и широкие плечи.
— Добрый день, Борис Александрович, — сказал он, слегка картавя, сделал шаг навстречу Реброву, протянул руку (блеснули часы на золотом браслете). — Виктор Ларионович.
Крепко сжал руку.
— Очень приятно.
— Виктор Ларионович — в некотором роде родственник Рудалевых…
Ах, да какая разница, кто он?..
Доктор распахнул дверцу:
— Ну, залезайте!
Нырнул в машину, сел рядом с водителем (на заднем сидении заметил трость с потертым набалдашником, немецкую газету и дамскую сумочку).
— Давненько хотел с вами познакомиться, — сказал Виктор Ларионович и завел машину.
— Вот выдался денек, — буркнул доктор, ерзая и сдвигая палку. — Куда ее?
— Да бросьте куда-нибудь… А жара-то! Ну, что? Поехали потихоньку?
Тронулись. Некоторое время петляли, а затем выскочили на прямую и полетели.
— Что с Левой, доктор? — спросил Борис. Показалась Толстая Маргарита.
— Морфий, Борис Александрович, морфий, — ответил за него Виктор Ларионович.
Тяжелые каштаны раскачивали ветви; волновалась сирень. С моря ветер. Крик чаек. Доктор щелкнул своим саквояжем, вздохнул и сказал:
— Мда. Вот так, Борис Александрович, вот так. Морфий.
— Неужели…
— А вы не знали? — спросил он сухо, почти язвительно. — Разве не вместе баловались?
— Баловались кокаином, но это было давно…
— Ну вот, доигрались. Последний год кое-как тянули его. Можно сказать, продлили жизнь, благодаря Виктору Ларионовичу…
— Да будет вам, доктор, — отрезал Виктор Ларионович, будто вступаясь за художника. — Всем необходимо лекарство! Бывает, целые страны так тянут… Вон, все финское правительство ходило к докторам, правда, за медицинским спиртом. Кому-то спирт, а кому-то морфий. — Резко затормозил. Всех бросило в жар. — Ах ты, черт тебя дери!
Грозно скрипя, из-за поворота на них катился громоздкий «бульдог». Сердце Бориса скнуло. Тяжелый и медленный, автобус надвигался. Ребров в ужасе посмотрел на человека рядом с собой. Тот окаменел. Труп, мелькнуло в уме. Краем глаза увидел, что доктор снимает шляпу. Все внутри сжалось и ухнуло. Качнувшись, махина встала в каких-нибудь дюймах от автомобиля. Вместе с ветром нахлынул лязг и запах гари, обдало копотью смерти. Отпустило. Виктор Ларионович высунулся из окошечка и показал здоровенный кулак. Водитель «бульдога» развел руками, сделал жест, мол, виноват. Виктор Ларионович зачем-то распахнул дверцу и, для острастки, что ли, хлопнул ею, завел заглохший автомобиль.
— Вот нелюдь, — сказал он, нажимая на акселератор, — не видит, куда прет. Хорошо за нами никого не было, а то… Слыхали, под Тарту случай?.. Разбилась пара… На полном ходу в спортивном авто врезались в грузовик — и два покойника!
— Да, — сказал доктор Мозер, — слышал, совсем обезображенные… муж и жена… Засекины… Борис Александрович, вы кажется знали их?
Ребров промолчал. Он хотел закрыть глаза. Но с закрытыми глазами будет совсем страшно — и ехал дальше, почти не моргая.
— А я ведь у него этот самый автомобиль покупал, — Виктор Ларионович похлопал по рулю своей лапой, и весело воскликнул: — Вот так и не знаешь, где и когда отдашь Богу душу.