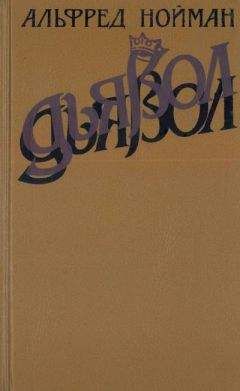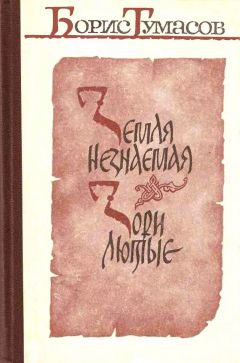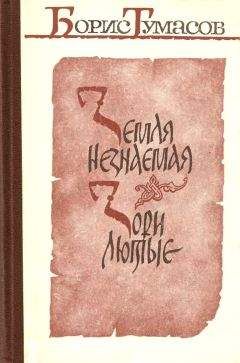Борис Тумасов - Земля незнаемая
— Князь Мстислав Тмуторокань покидает! — заговорили на торгу.
Юродивый с паперти недостроенной церквушки вещал:
— Сокроет небо тучи, быть грозе великой!
Иноземным гостям невдомёк, народ, знать, неспроста волнуется и себе с торжища прочь.
Русские купцы у Славина собрались, гадают, верна ли та молва? Может, попусту подняли переполох?
Славин лавку закрыл, позвал:
— Айдате самого Мстислава о том спросим!
— Сходим!
— Те, Славин, речь держать, ты над нами старшина, — высказались купцы.
Отправились торговые люди на княжеский двор, а народ туда уже валит. Слыхано ли дело, чтоб Тмуторокань без воинов оставлять. Тут при князе да с этакой дружиной и то дважды на рать выходили…
Толпа шумела многими голосами, обрастала и, влившись потоком в открытые ворота, остановилась у крыльца, сдерживаемая гриднями. Чей-то голос выкрикнул:
— Пусть князь народу покажется!
— Мстислава-а-а! — подхватили другие. — Князя!
Ждали недолго. Мстислав вышел не один, с ним тысяцкий Роман и воевода Усмошвец. Люд затих, приготовился слушать, что скажет князь. А он руку поднял спросил, окинув взором народ:
— Чего, тмутороканцы, шумите?
Толпа разом закричала. И снова Мстислав поднял руку, успокоил:
— Не разом, пусть один из вас речь ведёт.
— Славин, сказывай, тебе слово даём! — выкрикнул кто-то из купцов.
Народ раздался, пропустив Славина вперёд; он пробрался к крыльцу, задрал бороду.
— Слух прошёл, князь, что есть у тя намерение уйти из Тмуторокани в Чернигов. Так ли это?
— То так! — твердо ответил Мстислав, глядя купцу в глаза.
— А о Тмуторокани что же не радеешь? Либо уже не нужен те этот город, либо запамятовал, как стояли мы за тебя противу хазар, живота не жалели? А может, на нас какое зло поимел?
— Зла на вас я не имею, и любы вы мне, тмутороканцы. — Зычный голос Мстислава разнёсся над толпой, утихомирил возбуждённые голоса. — За то же, что ходили со мной на рать, город свой боронили, низкий поклон. — Князь склонил голову, помолчал, потом снова заговорил: — В Чернигов я собрался, и в том нет у меня поворота. Тмуторокань — что щит у Руси и зоркий страж на Русском море. А недругов у нас с вами, сами ведаете, не мало. Хазаров не стало, остались коварные греки. С другой стороны хищные степняки. Трудно нам. И хоть прочно сидит ныне в Киеве брат мой Ярослав, на его помощь я не уповаю. У него иная забота — от ляхов и печенегов Русь стеречь. Коли же буду я в Чернигове, то мы с вами степнякам с двух сторон грозить станем. А ежли ещё какая над Тмутороканью угроза нависнет, я с северной дружиной к вам немедля на помощь явлюсь.
Вот теперь сами разумейте, как лучше для вас: тут ли мне оставаться либо в Чернигов уйти? То-то! Тмуторокани на руку, коли я на черниговский стол сяду. Она от того ещё крепче станет. С братом же Ярославом мы, я мыслю, урядимся[130], и козней мне творить он не станет. А вас, тмутороканцы, я без дружины не оставлю. Будет в Тмуторокани мой посадник, воевода Усмошвец, а с ним гридни. Ян — воевода разумный, вы же помощь ему окажете, если надобность в том случится.
— Не хотелось бы, князь, с тобой расставаться, но коли решил, что поделаешь, — развёл руки Славин.
Тмутороканец сбоку пробасил:
— Ежели Усмошвеца с нами оставляешь, то добро. Ему мы доверяем.
Народ начал покидать княжеский двор.
От Тмуторокани и до самого Корчева море усеяно дочерна осмолёнными ладьями. Погода безветренная, и корабли застыли, не шелохнутся.
Спозаранку погрузилась молодшая дружина, за ней настал черед большей. Ладья, украшенная головой сказочного зверя или птицы, на вёслах подходила к мосткам, принимала десятка два гридней и, обвешанная щитами, отплывала в море…
Последним к мосткам причалил княжеский корабль. Орел с раскрытым клювом резал водную гладь. Ждали Мстислава, он задерживался.
Пристань заполнил народ, вся Тмуторокань высыпала проводить дружину. Шныряли мальчишки, надрывались, зазывая, торговцы-разносчики. Пришёл с товарищами Славин, покосился на стоящих обочь хазарских купцов с Обадием. Хазары о чём-то переговаривались оживлённо. На лице Обадия Славин уловил довольство: «Рад, поди. Ну да ныне нет вашего каганата…»
Засмотрелся Славин и не заметил князя. Поддерживая Добронраву за локоть, он ступеньками спускался с обрывистого берега. Следом торопились тысяцкий Роман, воевода Ян и тиун Димитрий с раздобревшей боярыней Евпраксией. Княгиня взор потупила, лицо печальное, — видно, нет охоты покидать родные места, зато Мстислав голову высоко несёт, глазами по толпе шарит, будто ищет кого-то. Заметил Славина, а неподалёку от него иноземных гостей, сказал:
— Купцы тмутороканские, и вы, гости с чужих земель, рады будем принять вас в Чернигове, навещайте с товарами.
— За доброе слово благодарим тебя, князь, — ответил за всех Славин. — Торг наше дело. Ты же нас не забывай, а коли в Киеве доведётся побывать да увидеть Савву, скажи, чтоб ворочался домой, и передай ему о смерти Давида.
У мостков Мстислав пропустил на корабль Добронраву с боярыней и тысяцкого тиуна. Толпа прихлынула к берегу, стала дугой вокруг князя. Он обнял Усмошвеца, и промолвил:
— Прощай, воевода, оставляю город на тя. Верю, в надёжных руках он будет. — И шагнул на ладью.
Ударили весла. Гордо выпятив резной нос, корабль тронулся. По мачтам поползли шёлковые паруса.
Встав на скамью, Мстислав снял шелом, крикнул:
— Спасибо те, люд тмутороканский!
И пока ладьи вытягивались в море Сурожское да белели поднятые паруса, не расходился народ.
СКАЗАНИЕ ДЕВЯТОЕ
1
У подножия Старокиевской горы Днепр пьёт воду Почайны-реки. Отсюда тянется заливной луг, заросший травами, жимолостью. Киевляне прозвали это место Оболонью.
В пятый день недели, когда время перевалило за полдень, княжий книжник Кузьма забрёл на Оболонь послушать, как кричат перепела да трещат коростели. Здесь и прихватил его дождь. Частый и густой, он повис сплошной стеной, закрыл Киев. Кузьма укрылся под слежавшейся копной, долго смотрел, как пузырится вода в луже. Прошлогоднее, потемневшее сено пахло прелью.
Не заметил Кузьма, как заснул. И приснилось, будто они с отцом поле пашут. Он, Кузьма, коня за уздцы ведёт по борозде, а старый Савватей грудью на рало налёг, тяжело дышит. Руки у отца синими жилами изрезанные, заскорузлые, борода взлохматилась, и пот со лба катится, глаза застилает. Из-под лемеха земля отцу под ноги пластом выворачивается, парует, пахнет хмелем. Голова у Кузьмы закружилась. Хочет он сказать отцу: «Давай передохнём», но Савватей опережает его, прикрикивает: «Не пора, Кузьма, не пора!»
Пробудился Кузьма, дождь прекратился. Солнце, большое, яркое, к земле опускается. Поднялся Кузьма и напрямик по мокрой траве зашагал к городу.
У Копырева конца[131] полюбовался каменной стеной. Совсем недавно сложили её камнетёсы по Петруниному плану на месте старых бревенчатых городен. Получилась она широкой и высокой, с прикрытием для воинов и бойницами для лучников. Придёт время, и такой стеной Петруня огородить весь город. Вот Золотые ворота[132] начал он переделывать.
До темна ещё не скоро, и Кузьма направился на поиски Петруни.
Второе лето, как приехал он из Тмуторокани и по велению Ярослава город укрепляет. Не раз слышал Кузьма, как бояре меж собой потешались над молодым зодчим:
«Эка городенца Ярослав сыскал! Молоко на губах не обсохло, а туда же…»
А потом попритихли, когда увидели, какие стены по его замыслу мастеровые возвели…
Кузьма пересёк город. Ещё издали за горой камня разглядел, как на дощатых мостках народ суетится: раствор носят, кирпич подают камнетёсам, а те знай молотками постукивают, плиты с природным камнем чередуют, кладут на известковой цемянке. Да так искусно подгоняют, словно под шнур.
Башня-стрельница вся в строительные леса взята.
Заметил Петруня Кузьму, вниз спустился, сказал:
— Се, Кузьма, отводная башня-стрельница с Золотыми воротами. От них каменные стены возведём с перекрытием. То крытый ход в город будет, а по краям для защиты срединной стрельницы ещё две башни поставим с зубчатыми парапетами…
Говорит Петруня и будто наяву всё видит.
— Вот там, Кузька, над Золотыми воротами поднимется надвратная церковь с золочёным куполом, а под воротами княжеская скотница для драгоценностей… Через два лета ты, Кузька, сам на всё поглядишь.
И, прикрыв глаза, помолчал, потом снова заговорил:
— Вчерашнего дня князь Ярослав зазвал меня и велел церковь делать из камня, подобную тмутороканской. Я же, Кузька, издавна иной мыслью тешусь. Не по подобию тмутороканской сделать бы, а чтоб царьградской Софии не уступала. Дорогим камнем её отделать, многоглавыми шеломами своими чтоб она небо подпирала, золотом глаза застила. А тому бы храму вечно стоять и Русь возвеличивать.