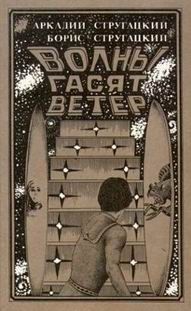Владимир Дружинин - Именем Ея Величества
В храм ступай, человек, где же ещё конечная-то мудрость?
Отвечает Феофан Прокопович:
— Радуйтесь, люди, что вам даровано жить в век Петра — монарха величайшего на планете. Держава наша изо всех прочих держав сильнейшая — она есть его творение. Он поразил копьём просвещения медуз невежества, суеверия.
Витийствует Феофан с амвона, с кафедры семинарии. В его проповедях слово «рабство» отсутствует, зато торжественно восхваляет он самодержавие, трактуя его как добровольный союз коронованного владыки и преданного народа. Отец Отечества умер, но есть мать отечества, вседневно пекущаяся о благоденствии России, о просвещении.
Слышен глас Феофана и в петербургских гостиных — баритон на редкость гибкий, — то грозно порицает леность ума, то очарованно, на высоких нотах славит могущество разума. Приходит в скромной рясе, часто с молодыми друзьями. Он самый заметный, самый громкий в «учёной дружине» — так прозвали в Петербурге компанию книгочеев, философов, спорщиков.
Салон княгини Волконской для них открыт. Поискать в столице хозяйку более гостеприимную, — каждому рада, лишь бы знал политес и не напивался.
Протопоп ласкает взглядом полный стан княгини, ловит благосклонную её улыбку и рассуждает:
— Кто истинно просвещён, тот сытости в ученье не ведает, а напротив, неутолимый аппетит имеет к постижению, от юных лет и до скончания живота.
Михаил Бестужев — брат княгини, дипломат, объездивший почти всю Европу, любезно кивает, помахивая лорнетом.
— Натура наша корыстна, — начал он. — Интерес к машине порождается выгодой. Ежели она выгодна, являются при ней мастера и ученики. Очень немногие тянутся к знаниям, к добродетелям бескорыстно.
— То Божья искра, — возразил Феофан. — Раздувать её надо. Проникновенным словом…
— Слов-то на Руси всегда в избытке, — усмехнулся Бестужев. — Тешим себя словесами, а дело вязнет.
— Верно, верно, — вмешалась Волконская. — Ленивы, терпим мерзость, грабительство. Разбойник пирует в своём дворце, измывается над нами, — терпим, терпим…
Лицо намазанное белым кремом на винном спирту, от злости бледнеет мёртвенно. Разбойник, узурпатор, кровопиец, Чингисхан, Тамерлан — десятки кличек придумала лютому врагу Меншикову и изобретает новые. Кабы слово убивать могло… Дело же главное в России, по её мнению, в том и состоит — свергнуть власть наглого парвеню.
Где храбрые? Кто схватит карающий меч?
Родные братья, увы, не союзники. Болтать годны, пуще всего ценят покой. Алексей в ответ на замечание сестры пространно заговорил о нравах.
— Один парижский аббат полагает, что глубже погрузиться в бесчестье, в распутство невозможно. В райских кущах, в златом веке человек жил безмятежно. Потом век серебряный, жадность возникает, первозданная природа людская попорчена. Век медный — своеволия ещё больше. Ныне железный…
— Век просвещения, — вставил Феофан.
— Оно должно исправлять мораль. Отчего же господствует вражда, насилие? И Господь терпит… Отчего, отец мой?
Спрашивает, резко вскидывая голову. Движения бодающие, отчего и пристала кличка «козёл». Пастырь объясняет терпеливо, как непонятливому ученику.
— Создатель доверил нам всё сущее. Носитель воли его — просвещённый монарх, по счастью доставшийся России.
— Нет его, и рушится государство, — встрепенулась Аграфена. — Псарь помыкает нами. Невежда, вор…
Прокопович и бровью не повёл. Слеп он, что ли? Или подкуплен, закормлен Меншиковым… И брат безучастен — опять вспомнил Париж.
Княгине хочется кричать, стыдить благодушных, сытых.
— Светлейший сватает дочь за наследника, — говорит она, дрожа от возмущения. — Это ли не наглость!
Отводят глаза. Смущённые смешки в сторону. Всё прощают сатрапу. Ганнибал, друг сердечный, будто не слышит её. И у него Франция на языке. Там механика в почёте, и цифирных школ тысячи. Да Бог с ней, с Францией! Княгиня кинула ему гневный взгляд и невольно залюбовалась узким, обтянутым лицом эфиопской смуглости, угольной чернотой длинных курчавых волос, которые она так любит разглаживать.
В армии Людовика он дослужился до капитана, теперь инженер-поручик гвардии, — градус, почитай, тот же. Познаниями генералу нос утрёт. Привёз из Франции четыре сотни книг, часть оных пропитания ради продал. Свою «Геометрию и фортификацию», труд в двух толстых тетрадях, преподнёс царице, — и что толку? Три года, как вернулся из-за границы, тянет лямку, повышения нет как нет. Ясно же, кто препятствует…
Эфиоп целует жарко, но женские чары, увы, не всесильны — ропщет он, но действовать против тирана остерегается. Уклончив и Дивьер, бывший фаворит Аграфены. Ревность зажал, зачастил снова, намедни повеселил прибауткой, уловленной полицейскими.
Из грязи князь,
Из девки царица,
Из болота столица.
Чьи же уста обронили? Дворянские, — ответил Дивьер коротко. Одно зубоскальство с ним, дела никакого… Сам-то счастлив был бы сразить ненавистного тестя. Присматривается? Не доверяет? На братьев-дипломатов княгиня махнула рукой — отшучиваются, боязно им рисковать карьерой.
Феофан однажды привёл красивого юношу, представил — Антиох Кантемир, сын покойного молдавского господаря Димитрия, стихотворец, полиглот, ходит в Академию на лекции. Вместе с отцом сопровождал Петра в персидском походе. Карие глаза студента блестели отважно, возбудили надежду у княгини — быть может, вот он, витязь, ниспосланный судьбой победить сатрапа! Оказалось, зелен мальчишка, наивен, подобно Феофану обожает Петра, безрассудно чтит ближних его. Замыслил поэму, для которой выбрал название — «Петрида», набросал несколько строк. Изображает смерть Петра как деяние Зевса, — громовержец столь восхищён подвигами царя, что забрал к себе на Олимп. Обществу аллегория пришлась по вкусу, хозяйку чтение сего детского опыта удручало. Чего доброго, и вора Алексашку к богам причислит.
Увы, безнадёжно звать на борьбу «учёную дружину»! Говорят то же, что и братья-дипломаты, — при нынешнем-де разброде и небрежении хоть один человек трудится — и со знанием государственных дел.
Меншиков, фараон ненасытный, торжествует. Доколе же? Отступить? Нет! На скрижалях истории будет вырезано имя Аграфены Волконской. Встала во главе праведного заговора, одолела монстра.
Рыцари клянутся ей в верности. Она вручает кинжалы, смазав ядом… Увы, мечта! Кругом изнеженные, малодушные. Смирить горячность, вести борьбу бескровную, осторожно, острым умом вместо клинка.
Гостей прибывает, салон открывается дважды и трижды в неделю, кормит Волконская вкусно. Французская книжка «светских разговоров» заброшена. Судят ли о порче нравов, притязаниях Морица в Курляндии или о доходах с вотчин, она выбирает возможного сообщника и затем после трапезы отводит в сторону…
Иногда визитует Толстой — в пятницу, понеже день постный, мясную пищу старец перестал вкушать. Признался Волконской:
— Отмаливаю свой грех.
Кается он, что был покорным орудием царя, аки пёс борзой рыскал по Австрии, по Италии, выслеживая беглеца Алексея, и приволок к родителю бессердечному на погибель. В Неаполе, где царевича спрятали в замке, подкупал стражу, вынюхивал, не щадя жизни. Оставить бы несчастного в покое…
— Наперёд как угадать!
— Воцарится сынок его, тогда пропал я.
Спасётся он, если престол достанется дочери Екатерины. Аграфена наружно сочувствует. Ей бояться Петра Второго нечего, она присягнёт любому монарху, лишь бы сразить аспида Меншикова. К чему спорить с почтенным сановником? Царица его уважает. Весьма пригодиться может…
— А князь пресветлый, дружок ваш, — сказала она язвительно. — Неужто не выручит?
— Этот-то… Утопит, мать моя.
Ушёл старец, нахваливая заливную севрюгу. Обещал всяческое содействие. Княгиня возликовала — ценный завербован союзник. Поделилась радостью с некоторыми друзьями. Секретный рапорт Меншикову гласил:
«…Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, невзирая на права государственные, без совета, и многие чинит непорядки, о чём он, Толстой, хочет доносить ея императорскому величеству и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какового случая он, Толстой, сыскать не может».
Но для Петра Андреича Волконские — опора зыбкая. Честолюбцы, влияния же при дворе не имеют. Однажды встретил в салоне Дивьера, шепнул ему:
— Мелкий народец. Пустомели.
Тот понимающе сжал локоть, отошёл — не здесь, мол, беседовать по существу. А чревоугодие — грех. Пресной кажется графу селёдка пряного посола. Раздражает арап, жутковато ворочающий белками, надоело парижское стёклышко Бестужева, вдруг нацеленное в упор. Вскоре визиты Толстого прекратились.