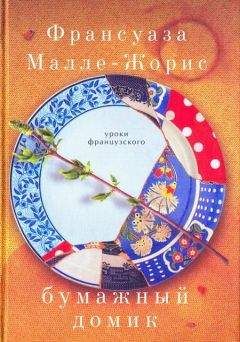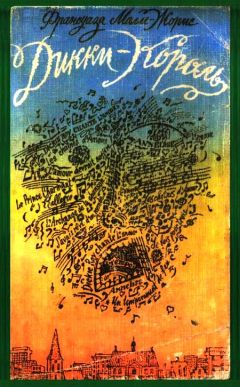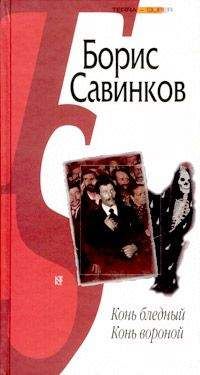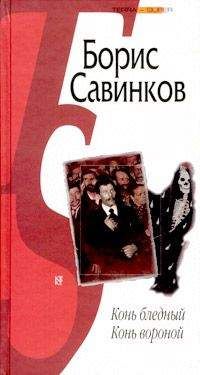Франсуаза Малле-Жорис - Три времени ночи
Для чего все это? Зачем, Жанна? Чтобы лишний раз убедиться в странной власти, которую чудесным образом придает ей ненависть, желание ранить, рушить, убедиться, что эту власть она сохраняет и на краю гибели и даже после Жанниной смерти след, зародыш этой власти не утратится? Она с давних пор знает, что ненависть столь же плодотворна, как любовь; и близость, которая устанавливается между жертвой и палачом, связывающее их сообщничество даст плод, который в один прекрасный день (до этого дня Жанна не доживет) созреет и расколется на тысячи ядовитых зерен. Неистовое отчаянное желание, источник которого ей неведом, руководит Жанной, определяет ее поступки, уносит в бешеном потоке (не надо думать, будто она никогда не боролась; даже и в эту минуту огромная, угрожающе нависающая над ней тень палача заставляет трепетать ее плоть; но и в эту минуту в глубине души она недоумевает, она не знает, почему и как это происходит, на эту выходку ее толкнул инстинкт). Не то чтобы у Жанны возникает сознательная мысль; лишь время от времени перед ней как бы появляется образ Мариетты, как появлялся он, когда Жанна давала волю лихорадочной радости, обманывая Тьевенну. Она отстраняла этот образ, как отстраняют густые ветки кустарника, как прокладывают себе дорогу сквозь высокую траву, заслоняющую горизонт, к которому направляешь свой путь. Не замешена ли на любви эта потребность делать зло, встряхивать людей, вонзать раскаленное железо в трепещущую плоть, потворство всему двусмысленному в себе, любование грязью, гноем? Быть может, она любила свои жертвы? Но вот любит ли она Мариетту? Жанна баюкала в себе зло, как ребенка, Предпочитая его своему настоящему ребенку, гордой и неиспорченной Мариетте, этой незнакомке, которую неудержимый порыв заставлял расти прямо, так что и Жанна не смогла ее согнуть. Любовь тоже хочет ранить, хочет обладать, лепить по своему образу, оплодотворять. И не были ли в какой-то степени ее сообщниками те, кого она всегда без труда побеждала? Разве не стали ближе к ней, разве не стали ей братьями и сестрами эти люди, после того как появлялось еле заметное пятнышко греха, которому суждено погубить их с головой? Может, вкус к греху в извращенном виде отражает потребность к общению, и у некоторых эта потребность иначе и не проявляется. И разве не из-за неспособности наладить это общение с Мариеттой, даже когда та была совсем маленькой, отдалилась дочь от Жанны? Ибо Мариетта знакома с гневом, но не знакома с ненавистью; может быть другом, но не сообщником; отведала одиночества, но не горечи. У Мариетты с матерью нет ничего общего. Недаром она крестьянская дочь, дочь правдолюба, у которого руки в крови, а голова полна мечтаниями о городе справедливости. Нет сомнения, этот Жак, один из многочисленных Жаков, давно уже превратился в жалкий скелет, болтающийся на виселице, однако Мариетта, никогда его не знавшая, вылитая дочь своего отца — Мариетта, которая бесстрашно ходит в Рибемоне из дома в дом и доказывает, что ее мать невиновна, — со своим простым и гордым сердцем она сама верит в ее невиновность (невиновность в высшем смысле, которая допускает месть, возмездие; Мариетта не исключала возможность преступления, которое мать могла совершить, чтобы отомстить за дочь, спасти ее. Но разве тут есть вина?). Как Жанна могла бы чувствовать родственную связь с Мариеттой, порождением мечты о городе справедливости? Даже под пытками, арестованная, приговоренная к смерти, Мариетта осталась бы сама собой. Непорочной. Чистой. Чужой. Нет, у Жанны есть одно-единственное дитя — зло. И в эту минуту, если бы Жанна могла разобраться в своих собственных чувствах, она поняла бы, что униженный человек, чей разум затуманен кровью, палач, который ждет не дождется, когда он начнет ее пытать, ближе ей, чем Мариетта, которая пылает гневом и не собирается убегать из Рибемона, и ведь до сих пор никто не отважился обвинить ее в колдовстве.
Распознает ли Жанна в конце концов в себе подспудную ненависть к белокожей девочке с прекрасными руками, которая так и не поняла, что служила матери орудием? К упрямому, сердитому, большеротому ангелу, с чьих уст слетали гневные слова, звучные, как хвала, прямые, подобно кинжальным ударам, которые убивают, но не отравляют в отличие от яда? Жанне надо было дожить до костра, чтобы понять, что она не любит Мариетту, ведь не ее прекрасный профиль, профиль ангела или телочки, будет высматривать она перед смертью в толпе, а маленькое, поблекшее, взволнованное лицо Тьевенны, чьего мужа она убила, чью душу отравила и чей дом разорила; Тьевенна будет стоять там со слезами напрасной жалости на глазах, испытывая сомнения, нерешительность, угрызения совести, да, Тьевенна обвинила ее, но теперь она уже ни в чем не уверена, до последнего дня горести и невзгоды будут преследовать, мучить Тьевенну, эту родственную душу, не давать ей покоя…
И добродушный палач, вдруг со страхом сознающий, что ему нравится мучить другого; и секретаришка, который, обнаружив, что он убийца, уже этого не забудет; и сам судья, что не осмеливался сойти в подвал, погрузиться в темень, где на дне таилась ее злоба, ее жалость. Родственные души, родственные души… Она взойдет на костер не одна. Но никогда, ни при каких обстоятельствах она не взойдет на него с Мариеттой, как до нее многие колдуньи, соединенные с дочерьми грязной и глубокой связью. Прощай, Мариетта, тебя принесли в жертву, а ты не знаешь и не страдаешь от этого, до последнего момента ты будешь убиваться, что ты не рядом с матерью и не можешь ее поддержать. Подобный род страдания Жанна не может себе даже представить.
Рано или поздно Мариетта примет участие в человеческих распрях. Праведная ли это борьба, неправедная, ведут ее из убеждения или из мести — искусством распознавать такие вещи Мариетта не наделена. Не следует требовать от нее таких тонкостей; она столкнулась с несправедливостью и увидела, что у несправедливости человеческое лицо и бороться она будет с людьми и против людей. Преемственность же в их семье будет навсегда прервана. О матери Мариетта будет говорить так: «Моя мать убила, чтобы спасти мою честь», — и это не трюизм, ведь Мариетта будет верить и в честь, и в справедливость. Она так и покинет этот мир, обладая совершенством животного, которое немногим уступает совершенству ангелов. Кровные узы ночью будут разорваны. Жанна предчувствует это. И она перестает думать о Мариетте, как будто ее нет Жанна и сознается словно наперекор дочери.
— Вот она благодарность за мою доброту, — заговорил палач. — Я только беседовал с тобой, близко даже не подходил, и вот теперь из-за тебя я на дурном счету. Погоди же! Я человек не злой, но клянусь, ты у меня криком будешь кричать!
Особенно он сердится на Жанну за удивление, которое прочел в глазах ребенка, за его внезапное молчание, за страх, сменивший воодушевление на его маленьком бледном лице. Для этого дурачка он был палачом, существом влиятельным, облеченным властью. А по вине этой колдуньи судья разговаривал с ним как со слугой! Почел его простым орудием! Перед ребенком! О, конечно, этот парнишка не бог весть что. Дурачок, которого родители доверили палачу за неимением лучшего, отчаявшись пристроить его куда-нибудь еще, тем более что детей у палача нет, — так они думали, — и он передаст их чаду свою должность, оставит свой дом, а может, и кое-какие деньжата. Жестоким маленьким идиотом, лживым и трусливым, палач помыкал без зазрения совести, в глубине души презирая его и без конца сравнивая с красивым смышленым малышом, который рос вдали от отца, в Сен-Квентене. Однако, как бы то ни было, дурачок был единственным существом на свете, который им, палачом, восхищался, а это что-нибудь да значило. Он бегал за палачом почти как собачонка; когда же человека кусает его собственная собака, у него такое чувство, что ничего у него больше нет. Возмущение в глазах мальчика, изумление задевали палача за живое, будили память о давнем унижении.
— Но я ничего не сказала! — возразила Жанна.
— Ты глядела на него и стонала, ты его околдовала.
— Очень режут веревки. И потом, ты кричал, я испугалась.
— Пугаться или не пугаться — твое дело, — проворчал он. — Только напрасно он грозит позвать стражника или судью. Сама увидишь, тебе от этого легче не станет.
Палач кипел ненавистью к Жанне. И вообще сегодня он не узнавал себя, ведь он всегда выполнял свою работу без удовольствия и без отвращения, пытаясь (только сейчас он осознал, что постоянно прилагает к этому усилия) рассматривать его как обычное занятие, только менее утомительное и лучше оплачиваемое. В первый раз ему хотелось делать больно, и это его удивляло, будоражило неразвитую оцепенелую совесть. Его всегда поражало, что люди, по-видимому, считали, будто его ремесло должно волновать, доставлять удовольствие, вызывать отвращение, иметь определенную привлекательность. Он же видел в своем ремесле вещь малоприятную, но в конце концов будь он сыном мясника… Велика ли разница? Однако сегодня его собственное смятение говорило, что разница есть. «Так вот что значит ведьма!» — думал он.