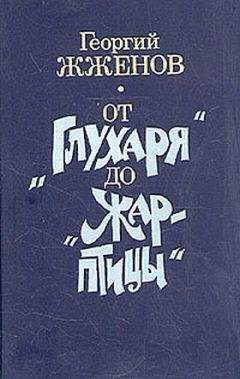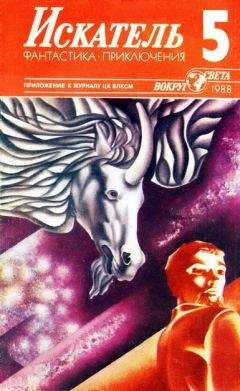Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
Истома только кивал в ответ, стараясь, чтобы ничто не выдало знание им итальянской речи. Хозяин таверны, вспомнив, что гость его не понимает, более не стал распространяться, и просто стоял в стороне, ожидая, не потребуется ли ещё одно блюдо. Но Истома уже насытился, и, встав из-за стола, поднялся в свою комнату.
Поздно вечером прибыл гонец из Венеции: дож Николо да Понте желает говорить с посланником царя Ивана Васильевича к папе римскому. Явиться следовало завтра к обеду…
"Что ж, надо — значит, явлюсь, — усмехнулся про себя Истома. — Мне что дож, что вьюга — один чёрт".
И задумался. Вспомнилось самое высокое указание любыми способами выведать всё, что возможно. Но на визит Истомы в Венецию Андрей Щелкалов не рассчитывал: при русском дворе сведений о европейских делах было не так чтобы очень много. Да и зачем? Полно более насущных дел: от поляков да от крымчаков или шведов отбиваться. И думать, как закончить проклятую войну, которая тянется уж больше двадцати лет [20].
Посольский дьяк, а вслед за ним и сам царь полагали, что Венеция состоит в подданстве римского папы, поэтому достаточно договориться с понтификом, а он-то уж даст указание дожу. Но, видимо, всё было значительно сложнее. Да и грамоты к правителю Венеции у него не было. Но должна быть! К утру.
Надо — значит, будет. И доставит её ко двору не "гон-чик лёгкий" Истома, а, как и было сказано начальнику береговой стражи, посланник русского царя Истома Леонтий Шевригин! [21]
Истома подошёл к Поплеру. Немец лежал на кровати спокойно, лицо его было покрыто крупным каплями пота, грудь вздымалась мерно. Он спал, и сон явно шёл ему на пользу. Шевригин взял походную суму и сел за стол.
Он прекрасно знал содержание грамоты к римскому папе. Это были сетования на короля Речи Посполитой, не желающего совместно с русскими воевать против турецкого султана, а вместо того губящего христианские души. А также предложение собрать все христианские силы против оного султана. И намёки, что царь Иван готов рассмотреть положения Ферраро-Флорентийского собора [22] применительно к Русскому царству. Истома достал из сумки лист бумаги, плотно закрытую чернильницу и принялся за работу.
Уже на половине послания он задумался: кто же будет перетолмачивать дожу это письмо? Раскрывать своё знание итальянского языка он не может — это ясно, а Паллавичино, негодяй, сбежал, и неизвестно, где его искать. Может, у венецианцев есть свои знатоки русского письма? Он вспомнил, что многие здания в Московском Кремле построены итальянскими зодчими. Лет, конечно, много прошло, но, может, кто за время строительства сам выучился, а потом, по возвращении, детям своим то знание передал? Это может быть — в надежде на будущие заказы московского правителя-то! А если и не найдётся — что с того? Он послание доставил, и его положение там строго указано — царёв посланник. Для всех посторонних итальянского языка он не знает, но латынь — очень даже! Вот на латыни и будет говорить. А что там их итальянские бояре при нём меж собой шепчутся — нет, он не понимает! Да и латынь свою, наверное, следует показать как слабенькую — едва-едва хватает, чтобы изложить суть государевых предложений да понять, что там в ответ бормочут.
Он тщательно вывел последние слова: "А доставит сию грамоту посланник Истома Шевригин". Всё, кажется. Истома покрутил головой, ища ящик с песком для посыпки свеженаписанного письма. Но, очевидно, нечасто в этой таверне останавливались путешественники, которым требовалась эта необходимая любому пишущему человеку вещь. Тогда Истома поднял грамоту за два угла и помахал ею в воздухе, потом подул на буквы. Дождавшись, когда чернила высохнут, он сложил лист в несколько раз и перевязал его конопляным шнурком. Теперь надо запечатать письмо. Для этого следовало растопить или просто хорошо размять в ладонях воск [23].
Андрей Щелкалов снабдил Истому в дорогу всем необходимым. Имелся в суме Шевригина и воск, и даже печать, какую давали в дорогу посланникам, чтобы было чем запечатать ответную грамоту, если в том настанет необходимость. Печать в сумке Шевригина отличалась от государевой, но тоже была орлёной, хотя и несколько иного рисунка. Да кто там в этой Венеции разберёт — что и как должно быть в грамоте русского посланника!
Истома поднёс к пламени стоящей на столе свечи большой кусок воска, дождался, когда он стал оплывать с одного бока, и накапал расплава на узелок стягивающего письмо шнурка. Приложив к быстро твердеющему воску печать, полюбовался на дело своих рук: письмо, если не приглядываться к печати, выглядело не хуже, чем то, которое передал ему Андрей Щелкалов для вручения римскому папе. Нет, ничуть не хуже! Истома улыбнулся.
Теперь, когда к завтрашнему посещению Венеции было всё готово, он почувствовал, что снова проголодался. В прошлый раз он ел, когда солнце только начало клониться к закату, теперь же за окном стояла густая, плотная тьма. Лишь с неба бесстрастно подмигивали звёзды — дождь давно закончился, тучи растаяли, и даже заметно потеплело.
Истома зевнул. Теперь, когда все приготовления к завтрашней встрече были сделаны, он ощутил, насколько сильно устал. Так много вместил этот день: конный переход от Тревизо до побережья, потом нападение разбойников, ранение Поплера и доставка его в таверну. А позже — известие о готовности дожа его принять, да ещё письмо это. Он почувствовал, что снова хочет есть, и без пищи засыпать совершенно уж тоскливо! Интересно, хозяин ещё бодрствует или его придётся будить?
Едва Истома открыл дверь своей комнаты и вышел на площадку ведущей вниз лестницы, как понял, что никого будить не надо. За одним из столов, на котором стоял деревянный канделябр с тремя ярко горящими свечами, сидел спиной к Истоме человек и жадно ел что-то из большой миски. Одежда его — богатая, расшитая золотыми и серебряными нитями, была густо заляпана грязью. Во взлохмаченной чёрной шевелюре обильно поблёскивала седина. Истома узнал его сразу, даже со спины: за столом сидел Паллавичино, трусливо бросивший их с Поплером на растерзание разбойничьей шайки. Очевидно, он изрядно побродил по незнакомому берегу, здорово устал и продрог без своей мантии, брошенной под пинией во время нападения разбойников. Хозяина таверны видно не было.
Нового посетителя он, кажется, не посчитал достаточно важным, чтобы присутствовать в помещении для приёма гостей в готовности принести по его распоряжению новое блюдо.
То ли заслышав лёгкие шаги спускающегося в таверну Истомы, то ли ощутив спиной его взгляд, Паллавичино вздрогнул и перестал есть. Рука с ложкой застыла на полпути между миской и ртом. Осторожно, словно боясь увидеть позади себя мертвеца, купец обернулся. При виде Истомы веки его вздрогнули и распахнулись во всю ширь. Шевригин уже ступил на пол первого этажа и теперь стоял, в упор разглядывая своего ненадёжного попутчика, дважды бросившего их в беде. Но если в первый раз всё обошлось удачно, то теперь Поплер лежал в беспамятстве, получив серьёзную рану, и уход врача будет нужен ему ещё много дней.
В глазах итальянца явно читалась неуверенность. Он никак не мог решить для себя — хорошо ли, что в таверне остановился русский посланник, который нанял его толмачом и был свидетелем недавней пагубной трусости? Очевидно, быстро взвесив все обстоятельства, он решил, что лучше уж Истома, чем Поплер, который непременно, будь он здесь и во здравии, снова отхлестал бы его этой страшной нагайкой, а то, чего доброго, что похуже сотворил бы!
Паллавичино расслабился. На его лице даже появилось нечто вроде улыбки. Лицо Истомы же было по-прежнему бесстрастным, но если бы итальянец узнал, что творится в голове у русского, улыбка тут же сменилась бы гримасой ужаса.
Ох, как сильно хотелось Истоме зарубить эту мерзкую гадину! Прямо здесь — за столом в таверне! Вынуть из ножен саблю — острую, упругую, надёжную! Исфаханский шамшир [24], которым так удобно рубить, сидя в седле! Рубануть бы мерзавцу с оттяжкой по тонкой шее, чтобы с первого раза снять голову с плеч. Но нельзя!