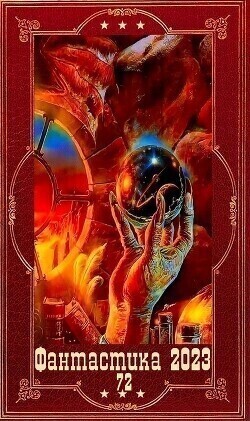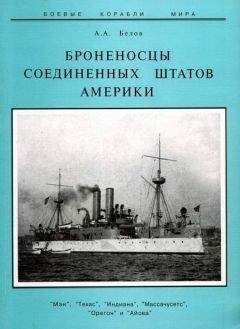Двое строптивых - Старшов Евгений
Жоффруа понимающе хмыкнул, а Фидельфус, чуть подавшись вперёд, доверительно продолжал:
— Великий магистр сам признался — ну, это между нами, — что не будь он облечен столь высоким и ответственным саном, он в лицо высказал бы этому Соломону все, что он думает о нем и о Венеции, а так… В общем, напомнил послу, что орден, согласно статутам, не вмешивается в войны христианских государей и что Родос не принимает бунтовщиков — лишь дарует убежище людям чести и добрым христианам, сокрушенным Фортуной. Как-то так. А я бы на месте великого магистра еще намекнул, что нам известно о тайном сговоре дожа с константинопольским тираном за спинами папы, королей Неаполя и Арагона, нас и Флорентийской республики. Это было бы для посла, как ведро холодной воды на голову.
Жоффруа снова хмыкнул и спросил:
— Что еще новенького слышно?
— Новенького? Вряд ли что-то заслуживающее особенного внимания. Греческий митрополит Митрофан передал нам трех монахов-бунтовщиков для казни.
— И в самом деле пустяк, — согласился Жоффруа.
Секретарь великого магистра еще немного порылся в памяти и продолжал:
— На той неделе обнародован закон о том, что тот, кто хочет выжить соседку-проститутку, обязан выкупить ее дом. Это в ответ на поданную горожанами петицию с требованием, чтоб блудницы не жили рядом с достопочтенными дамами.
Жоффруа задумался. Как видно, новость о проститутках затрагивала его личные дела. Наверное, он даже забеспокоился, что теперь ради удовлетворения зова плоти придётся ходить чуть ли не на окраину города. Очень неудобно.
Секретарь великого магистра не мог развеять его опасения, однако начал брюзжать в знак солидарности:
— Ох уж эти достопочтенные дамы. Как видно, опасаются конкуренции. Я, честно говоря, давно уже не вижу меж почтенными горожанками и блудницами особой разницы — разве что благосклонность блудницы обходится гораздо дешевле. С блудницей как-то спокойнее за свой кошель, чем с добропорядочной женщиной, которая утверждает, что ей от тебя ничего не нужно, а на самом деле ей нужно все.
— Печальная истина. — Жоффруа вздохнул, а секретарь посчитал, что достаточно поддержал собрата в минуту горя и что теперь можно вернуться к прерванному отдыху:
— Ладно, ступай к своим. Ждут ведь. Погуляете маленько, а я здесь посижу, подожду магистра.
Жоффруа, Лео и остальные отправились, куца велел секретарь, и пусть ожидание утомляло, но в жаркий день томиться ожиданием в саду гораздо приятнее, чем в душной и зачастую тесной приемной.
Сады великих магистров, располагавшиеся вокруг их резиденции, были прекрасны! Разумеется, время и турки не пощадили их, однако известно, что они, словно у папы римского или иных влиятельных итальянских церковных и светских магнатов, были украшены античными мраморными статуями, в изобилии периодически извлекаемыми на свет божий из подземных глубин Родоса.
Д’Обюссон, хоть и глава монашеского ордена, и князь Церкви, имел незашоренный ум, поэтому любил и ценил прекрасное во всех его проявлениях, чем, естественно, раздражал упертых церковников вроде известного родосского проповедника — брата Антуана Фрадэна, который упрекал д’Обюссона в недостаточном усердии по насаждению мракобесия на острове.
Нельзя сказать, чтоб магистру было не до улучшения нравственного состояния своих подданных. Напротив, и до, и особенно после Великой осады он усердно и порой жестко боролся с родосской безнравственностью в различных ее проявлениях. Например, серией декретов 1483 года магистр ополчился на прелюбодеек и прелюбодеев, а также сводников, гомосексуалистов и игроков, грозя сожжением заживо. А ввиду того, что в мирное время мусульманские купцы, прибывавшие на Родос, заводили связи с христианками, последним стала грозить смерть за связь с мусульманином, а также евреем.
Касательно последних, д’Обюссон в 1502 году задумал было окрестить их всех под угрозой высылки и конфискации имущества, однако осуществить задуманное не успел. Но он весьма справедливо полагал, что разбивать мраморных Афродит, на чем настаивали всяческие "ревнители", стало бы признаком дурного вкуса, воспитания и полной ограниченности.
— Это же идолы языческие! — трепеща от гнева, бывало, ярился Фрадэн.
— Помни слова святого апостола Павла о том, что идол есть ничто, — тихо улыбаясь, говаривал магистр. — Кроме того, я же не поклоняюсь им, не воскуряю фимиам и не приношу жертв.
— Сам помни, что нельзя быть теплохладным, как ангел Лаодикийской церкви! Что сказал ему Господь? "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч!" Терпение к идолам перейдет и в их почитание!
Но что разговаривать с идиотом? Бесполезно. Впрочем, даже сам премудрый царь Соломон не мог разрешить этой задачи и записал в "Притчах": "Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему". Тот же Соломон проницательно заметил: "Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей [7], нежели глупца с его глупостью… В уши глупого не говори, потому что он презрит слова твои". Вот так.
Однако мы опять увлеклись. К вышесказанному добавим лишь то, что двор и резиденция великого магистра иоаннитов, в культурологическом смысле, были, как и итальянские дворцы, глотком живительного воздуха Ренессанса, до которого дворам и властителям прочей Европы было еще ох как долго и далеко.
Во почему Лео, прибывший из Англии, в отличие от своих спутников, оказался изумлен всем увиденным. Он не мог налюбоваться на чудесное искусство древних, а любительское собрание улема Гиязеддина, выкопанное в Иераполисе, уже не казалось чем-то впечатляющим.
Что именно мог увидеть молодой англичанин в садах великого магистра — приходится только догадываться. Ни описаний, ни хотя бы просто каталога магистерской коллекции не сохранилось. Предполагать? Можно, но дело это неблагодарное.
Только каким-то шестым чувством можно постичь сквозь смутную дымку призрачного времени, что могло быть у д’Обюссона, глядя на Лаокоона и на Фарнезского быка, а также на родственные родосской школе скульптурные образцы — например, Медузу горгону в Дидимах.
Насилие и страсти, навеки запечатленные в камне, боль физическая и духовная, и вместе с тем ее преодоление, пресловутый катарсис — душевное воскресение через страдания. Та же Медуза — страшное пугало из древних мифов и детских сказок, змееволосая летающая дева, обращающая в камень всех одним своим взглядом, но лишь в дидимском барельефе видна вся бездна ее страдания. Пухлощекая, с ямочкой на подбородке, затравленным взглядом смотрит она на окружающий мир, ужасаясь учиненному над ней двойному насилию. Во-первых, физическому, которое сотворил над ее цветущей, беззаботной юностью владыка морей Посейдон, а во-вторых, моральному, когда с ведома беззаботных олимпийцев свершившаяся с Медузой беда обратила ее в чудовище, мстящее всем невинным за свое горе. Только высочайшее искусство мастера могло заставить безжизненный камень рассказать вдумчивому человеку всю трагедию этой несчастной.
Кто еще мог находиться в магистерском саду? Наверняка не все, собранное там, было шедевральным и высокохудожественным. Были и "штамповки", которые существовали во все времена.
Обзор греко-турецких музейных собраний скульптур позволяет выделить широко распространенные типы статуй. Часто встречаются копии лисипповской статуи отдыхающего Геракла, мускулистого, с окладистой бородой, опирающегося на свою палицу и держащего за спиной три волшебных яблока из сада Гесперид. А что касается Родоса, то не мог остров обойтись без изваяний этого героя-труженика древнегреческой мифологии, поскольку линдосская храмовая хроника оставила для нас запись о посещении Гераклом Линдоса (одного из трех древнейших городов Родоса). К тому же сын Геракла, Тлеполем, был царем Родоса, откуда отплыл на Троянскую войну и, увы, пал в сражении.
Не раз можно видеть в музеях и копии другой известной статуи — три юных грации (или хариты), олицетворявшие мир, гармонию и красоту: юные нагие богини стоят рядом, обнявшись за плечи. Эти дщери Зевса — Эв-фросина, Талия и Аглая — были Родосу не чужие. Считалось, что они родом с островка Сими, находящегося на расстоянии в 21 милю к западу.