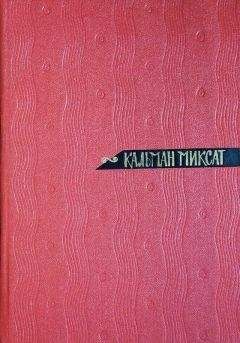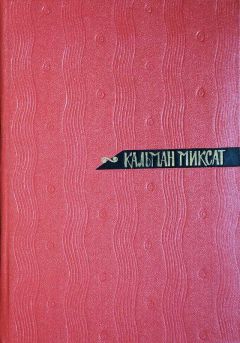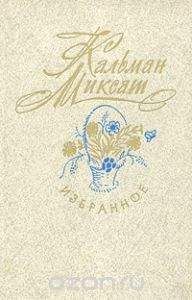Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
Потому-то хозяйка моя выступала под знаменами дона Элеутерио Криспина де Андорра, не во гнев будь сказано нашим суровым Аристархам. Просто вкус ее был ограничен, и она никогда не поняла бы хитроумного обоснования трех единств, даже если бы ей проповедовали о них босоногие монахи. Надобно уведомить вас, что аббат Кладера, чьим портретом можно назвать славного дона Гермохенеса, был близким другом отца нашей героини, и, вероятно, еще в детские годы этот блестящий педант заронил в ее ум семена тех самых принципов, которые в другой голове дали столь роскошный плод, как «Великая осада Вены».
Не мудрено, что моей хозяйке нравились творении Комельи, хотя она и не решались в этом признаться перед людьми пишущими и просвещенными, ибо к тому времени сей театральный бог был уже низвергнут с вершин славы в пучину нищеты и забвения. Как я мог заметить, слушая ее речи и стараясь уяснить ее литературные предпочтения, пьесы Комельи нравились ей потому, что в них были пышные выходы и уходы, парады войск, голодные дети, требующие материнской груди, декорации, изображавшие «большую площадь с триумфальной аркой», могучие бородачи — всякие там ирландцы, московиты или скандинавы — и роскошный слог, изъясняясь которым героиня в трудную минуту восклицала: «Я стала статуей живою изо льда!», или же: «О злоба, притворимся! О ненависть, открою ль сердце! О хитрость, помоги мне!»
Помнится, частенько случалось мне слышать ее сетования по поводу того, что новый вкус изгнал со сцены «перекрестные» диалоги, вроде следующего, который, если не ошибаюсь, содержится в комедии «Милосердие Леопольда Великого»:
Маргарита. Смелей, любовь…
Надастль. О ненависть…
Эрин. О робость…
Карлос. Безумие…
Альбуркерке. Смятенье…
Ульрика. Бед начало…
Все шестеро. Надеждой льстимся мы теперь, что время
Откроет то, о чем ты умолчала.
Но так как пьесы этого сорта выходили из моды, моя хозяйка лишь изредка имела удовольствие участвовать в драмах, вроде «Петра Великого во время осады Полтавы», где царь приказывает своим солдатам есть сырую конину без соли и клянется, что сам он будет питаться камнями, но города не сдаст. Должен заметить, что в этих предпочтениях больше сказывалась жгучая неприязнь к моратинистам, нежели необразованность: могла ли признать превосходство новой школы моя хозяйка, истая, воинствующая испанка до кончиков ногтей, полагавшая, что правила и хороший вкус — величайшее зло, ибо ввезены из-за границы, и что всякий настоящий патриот должен цепляться, как за святую хоругвь, за нелепости наших доморощенных поэтов. Что касается Кальдерона и Лопе де Вега, то их она ставила очень высоко именно потому, что классицисты их презирали.
Здесь я охотно сделал бы небольшое отступление, чтобы поделиться своими мыслями о тогдашних театральных партиях, о вкусах народа в целом и, в частности, о вкусах тех, кто столь яростно оспаривал его благоволение. Однако боюсь надоесть читателям и слишком отклониться от главного предмета — я вовсе не собирался пускаться в ученые споры о вещах, которые, возможно, читателю известны лучше, чем мне. Оставим же неуместные здесь рассуждения и, установив вкусы моей хозяйки, которые испортили бы репутацию любой нынешней маркизе, артистке или львице так называемого высшего света, но в то время ничуть не умаляли очарования Пепиты, пойдем дальше.
Итак, вы с ней уже познакомились. Теперь можно приступить собственно к рассказу. Но нет, как же это я забыл! Я ведь не могу продолжать, не сообщив, какую роль я, себе на горе, сыграл во время нашумевшей премьеры «Когда девицы говорят «да», — и без того натянутые отношения между моей хозяйкой и Моратином, отчасти из-за меня, резко ухудшились, и наступил полный разрыв.
II
Дело было еще до событий, о которых я намерен дальше рассказать, но это не беда. Премьера «Когда девицы говорят «да» состоялась в январе 1806 года. Моя хозяйка тогда играли в театре «Лос Каньос дель Пераль», так как театр «Дель Принсипе», сгоревший несколько лет назад, еще не был отстроен. О комедии Моратина, читанной им на вечерах у Князя Мира и у Тинео, говорили как о литературном событии, которое должно было увенчать его славой. Соперники по перу (их было немало) и завистники (их было большинство) распускали злостные слухи, утверждая, что эта комедия еще более снотворна, чем «Ханжа», более вульгарна, чем «Барон», и еще более антипатриотична, чем «Кафе». Задолго до премьеры уже ходили по рукам в списках сатиры и памфлеты, не дозволенные к печати. Было применено самое сильнодействующее по тем временам средство — призывы к духовной цензуре не допустить представления. Однако талант нашего первого драматурга взял верх над всем, и комедия «Когда девицы говорят «да» была поставлена двадцать четвертого января.
С понятным для такого юнца восторгом я принял участие в грозном заговоре, составленном в костюмерной театра «Лос Канос дель Пераль» и в других темных закоулках, где среди «вуалей паутины» прозябал кое-кто из драматургов прошлого века. Возглавлял заговор некий поэт, чей облик и стиль вы можете легко вообразить, вспомнив наглого писаку, которого Меркурий избирает из галдящей толпы, чтобы представить Аполлону. Имя я забыл, зато отчетливо помню его лицо, лицо человека презренного и ничтожного, чей духовный и физический облик словно слеплены матерью-природой из отбросов. Душа его была иссушена завистью, тело — нуждою, из года в год он становился все безобразней и гнусней; плоды его пошлого ума, испробовавшею все жанры от героического; до дидактического, уже внушали отвращение даже приверженцам его школы, и он перебивался тем, что сочинял грубые пасквили и дрянные памфлеты против всех, кто был враждебен его покровителям, не требовавшим взамен за свои благодеяния ничего, кроме лести.
Этот сын Аполлона повел нашу внушительную процессию в раек театра «Де ла Крус», где нам предстояло, заранее прорепетировав свои роли, выразить возмущение выдумками классической школы. В зал мы проникли с немалым трудом — стечение публики и тот вечер было огромное, но так как мы пришли рано, нам удалось занять лучшие мести в райских эмпиреях, наполненных нестройным гулом страстных литературных споров и дурными запахами исходившими от не слишком опрятной публики.
Вы, наверно, думаете, что внутренний вид театров в те времена мало чем отличался от нынешних наших колизеев. Величайшее заблуждение! На верхней галерее, где виршеплет расположил свой шумный батальон, была устроена перегородка, отделявшая мужчин от женщин — воображаю, как ликовал мудрый законодатель, измыслив эту штуку, как потирал руки и хлопал себя по высокому челу, полагая, что сим новшеством приблизил установление гармонии меж особами разного пола. Где там! Разделение лишь подогревало в мужчинах и женщинах естественное желание вступить в беседу; сиди они рядом, можно бы переговариваться шепотом, теперь же приходилось кричать во все горло. Между двумя станами велся перекрестный огонь, сыпались нежные словечки, насмешки, сальности, шутки, от которых все изысканное общество покатывалось со смеху, вопросы, на которые отвечали бранью, и остроты, вся соль, которых заключалась в том, что их выкрикивали как можно громче. Нередко от слов переходили к делу, и тогда с одного полюса на другой летели брошенные меткой рукой пригоршни каштанов, орешков и апельсинные корки, — эти забавы, правда, мешали смотреть спектакль, зато доставляли огромное удовольствие обеим половинам райка.
Надо однако, сказать, что эта же самая публика, по внешности столь грубая, обнаруживала большую чувствительность, рыдая вместе с Ритой Луной в драме Коцебу «Мизантропия и раскаяние» или разделяя возвышенный ужас славного Исидоро в трагедии «Орест». Несомненно и то, что нигде в мире публика не умела так беспощадно высмеять писателей и поэтов, пришедшихся ей не не вкусу. Равно готовая веселиться и плакать, она, как малое дитя, поддавалась внушениям сцены. Если автор не умел снискать ее благосклонность, виноват был он сам.
Театральный зал, если взглянуть на него сверху, представлял невообразимо унылое зрелище. Тусклые масляные лампы, которые служитель зажигал, перепрыгивая со скамьи на скамью, едва мерцали в полутьме: при их скудном свете нельзя было даже через подзорную трубу как следует рассмотреть выцветшие фигуры на закопченном потолке, где выделывал антраша красавчик Аполлон в алых сапожках и с лирой в руке. А сколько хлопот доставляло зажигание главной люстры, которую, по завершении сей сложной процедуры, медленно подтягивали кверху при помощи блока под громкие возгласы райка, не упускавшего случал подурачиться и пошуметь.
В зале тоже была перегородка — внушительное бревно, прознанное «плахой», которое отделяло кресла первых рядов от собственно партера. Ложи походили на тесные, темные курятники — там располагалась чистая публика, и так как дамы, по давнему обычаю вешали свои шали и накидки на барьер, ярусы в целом имели вид декорации, изображающей улицу Почты или Суконные ряды.