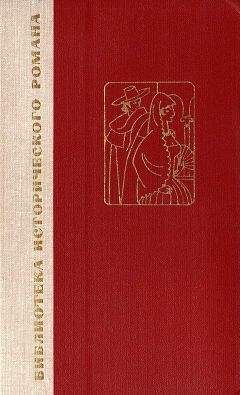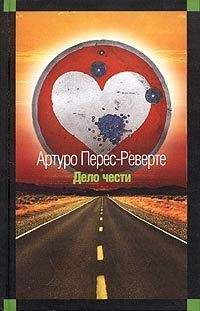Василий Авенариус - Гоголь-гимназист
— Дайте им играть трагических героев, так они, может быть, и на деле станут вести себя героями, — шутливо заметил Ландражен.
— И вправду, Иван Семенович! — подхватил Кукольник, который успел уже ободриться и, как свой почти человек в доме директора, позволял себе иногда вмешиваться в беседу взрослых. — Разрешите нам опять играть на масленой! Заместо классных досок, мы соорудили бы уже настоящие кулисы и поставили бы настоящую классическую трагедию Озерова или Державина.
— Озеров и Державин, милый мой, еще не подлинные классики, не боги, а полубоги российского Парнаса, — поправил Никольский.
— Но озеровский «Эдип в Афинах», Парфений Иванович, разве не классическая пьеса?
— Гм… пьеса изряднехонькая, но лишь полуклассическая. Да и кому же из вас, юнцов, была бы по плечу ответственная роль самого Эдипа?
— А хоть бы Базили: он у нас ведь коренной грек и перечитал в оригинале чуть не всех греческих авторов. Ты, Базили, сыграл бы ведь Эдипа?
— Отчего не сыграть, — отозвался Базили. — Но дозволят ли нам вообще играть?
Между господами педагогами поднялись оживленные прения: допускать ли опять театральные представления в стенах гимназии, так как еще задолго до спектакля молодые актеры за повторением ролей забывают повторять уроки. Но, благодаря вкусным и обильным яствам и питиям, настроение большинства оказалось настолько благодушным, что вопрос был разрешен утвердительно. «Коронной» пьесой был окончательно назначен озеровский «Эдип», а после него, по предложению Орлая, ради практики воспитанников в иностранных языках, положено было поставить по одной небольшой немецкой и французской комедии или водевилю; выбор их предоставлялся профессорам этих языков, а режиссерство — Кукольнику, говорившему свободно на обоих языках.
— В сию статью я не мешаюсь, — сказал Никольский, пожимая плечами. — Но нашей российской пьесы, молодой человек, я не могу вам доверить, как не доверяю вашим собственным виршам.
— А кстати, Парфений Иванович, — с улыбкой заметил тут Орлай: — ведь у нас появился здесь еще второй стихотворец.
— Кто такой?
— А вон Гоголь-Яновский. Николай Васильевич! Прочтите-ка нам теперь ваши «Две рыбки».
Гоголь, уверенный, что директор давным-давно забыл уже про его балладу, и очень довольный, что избегнет таким образом беспощадной критики Парфения Ивановича, был застигнут врасплох.
— Увольте, Иван Семенович… — смущенно пробормотал он.
— Да баллада ведь с вами?
— Да… то есть, нет…
— Нечего вам кобениться, как упрямый жеребенок! — вмешался Парфений Иванович. — Мы все тут и без того знаем, что баллада ваша из рук вон плоха. Но чем плоше, тем лучше: и нам-то веселее, и вам здоровее; как осмеют вас всенародно, так узнаете, по крайности, цену своему непризванному стихотворству.
— Как ни плохи мои стихи, но смеяться над ними я никому не позволю… — дрогнувшим голосом проговорил Гоголь и, с шумом отодвинув стул, стремительно вышел вон из комнаты.
— Одначе! — воскликнул Никольский.
— Это он сгоряча, Парфений Иванович, pro aris et focis[14], объяснил Орлай: — в своей балладе он рассказывает о любимом покойном братце; а кто из нас дозволит смеяться над дорогим нам покойником? Милостивые государи и государыни! последний блин, как видите, вышел комом. Что делать? У лучшей хозяйки бывают такие прорухи. Засим прошу вас в гостиную, куда подадут нам кофе. А вы, Нестор Васильевич, сыграли бы для нашего торжественного шествия маршик.
И под звуки триумфального марша все общество из залы двинулось в гостиную. Кукольник для своих 14 лет играл на фортепиано уже весьма недурно, и за маршем последовала ария из моцартовского «Дон Жуана», а за арией — вальс Ланнера.
Вдруг из залы влетела в гостиную вальсирующая пара: Базили с Лизанькой Орлай. Иван Семенович захлопал в ладоши:
— Браво! Нам, старикам, видно, ничего не остается, как убраться в кабинете.
В кабинете тем временем был уже открыт ломберный стол. Четверо из господ педагогов уселись за бостон, другие сгруппировались вокруг директора-хозяина для оживленной беседы. Оживлению не мало способствовали также разнообразные ликеры собственного изделия Шарлотты Ивановны. А Кукольник за фортепиано не унывал: когда наступила пауза в танцах, он заиграл «Gaudeamus». С первых же звуков все начальство, как один человек, замурлыкало, затянуло старинную студенческую песню. Едва допели, как разошедшийся хозяин крикнул молодому музыканту:
— Ita! Ita!
И тот заиграл с собственными вариации излюбленную директором венгерскую, подпевая:
«Extra Hungariam non est vita,
Si est vita, non est ita…»[15]
Сам Иван Семенович и земляк его, профессор Билевич, вторили вполголоса.
На воспитанников, однако, наибольший эффект произвела известная песенка Беранже: «Le marquis de Carabas», которую, по общей просьбе гимназистов, с неподражаемой игривостью пропел Ландражен. Когда, около полуночи, все распрощались с гостеприимными хозяевами, и молодежь стала подниматься по лестнице на свой третий этаж «для положения себя в постели», Кукольник затянул ту же песенку, очень удачно подражая Ландражену, а товарищи с одушевлением подхватили рефрен:
«Chapeau bas! chapeau bas!
Gloire au marquis de Carabas!»[16]
А Гоголь? Он давно лежал под своим одеялом; но ему не спалось, и он беспокойно поворачивался с боку на бок, по временам лишь тяжко вздыхая.
— Ты о чем это, Никоша? — впросонках спросил его Данилевский, кровать которого отделялась от его кровати только табуретом.
Гоголь притворился спящим и пустил в ответ густой храп.
Не мог же он, в самом деле, признаться, что изорвал на мелкие лоскуточки единственный список своей драгоценной баллады «Две рыбки», которая таким образом навсегда утратилась для потомства.
Глава четвертая
Дошутился
Подходила масленица, а с ней и день гимназического спектакля. На долю Гоголя в озеровской трагедии выпала незначительная роль верховного жреца храма Эвменид, да и той он не мог подучить на зубок: очень уж тяжеловесны были эти «полуклассические» александринские ямбы. Куда более занимала его сама обстановка театра, потому что, с разрешения начальства, на этот раз имелось в виду пригласить зрителями и живших в Нежине ближайших родственников молодых актеров, и, чтобы не ударить лицом в грязь, ставили «настоящие декорации», а Гоголю, как изрядному рисовальщику, поручили сооружение их и раскраску. Во время рекреаций, когда все прочие гимназисты гуляли, резвились, он не делал ни шагу из запасной классной комнаты, специально отведенной господам актерам, и с редким усердием клеил, малевал.
Раз, впрочем, Данилевский застал его там и за другим делом: Гоголь держал в руках ручное зеркальце и корчил сам себе уморительные рожи.
— Ты что это, Никоша, мимику что ли изучаешь? — спросил Данилевский.
— А то как же? — был ответ. — Ведь коли играть этакого столетнего старикашку, так надо и выглядеть стариком. Вот зубы только мешают: никак не могу добиться, чтобы нос сходился с подбородком, погляди-ка.
Данилевский расхохотался: благодаря крючковатому носу и выдающемуся подбородку, друг его почти достигал уже своей цели.
— Ну что, «изряднехонько»?
— Превосходно! Только вот что я тебе скажу, дружище: ты забываешь, что у верховного жреца должен быть вид строгий, величественный, а у тебя выходит, извини, какая-то карикатура на жреца, замухрышка, над которым не грех и посмеяться.
— Что и требовалось доказать. По крайней мере увидят, что в этакой ходульной пьесе гораздо более комизма, чем трагизма.
— Ничего не увидят, как разве то, что ты не трагик, а комик. Но это и без того нам всем известно.
— По природе-то я не комик, а меланхолик, — серьезно и как бы с оттенком грусти промолвил Гоголь, — ваши товарищеские игры, например, не доставляют мне ни малейшего удовольствия…
— Вот то-то и удивительно, — подхватил Данилевский, — как объяснить себе такое противоречие в твоей натуре? Ставить других в нелепое, смешное положение, напротив, доставляет тебе большое удовольствие.
— Потому что этим я разгоняю свое тоскливое настроение. Да и моя ли вина в том, что у меня есть некоторый дар подмечать все смешное?
— Как бы этот дар не обошелся тебе слишком дорого!
Опасение Данилевского скоро оправдались. Началось дело на уроке у учителя пения, Федора Емельяновича Севрюгина. В гимназическом хоре «для порядка» должны были участвовать все воспитанники, как способные к музыке, так и лишенные музыкального слуха. К числу последних принадлежал и Гоголь. И вот на таком-то уроке хорового пения он взял высокую ноту настолько «мимо», что даже привыкший к таким фальшивым нотам у учеников Федор Емельянович не выдержал.