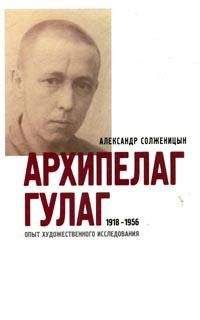Олдос Хаксли - Маленький Архимед
В конце концов Карло сдался. Она была слишком настойчива, и у нее на руках оказалось слишком много козырей. Ребенок перейдет к ней и для начала побудет месяц-другой. После этого, если он выразит желание остаться, она сможет усыновить его уже официально.
Узнав, что они едут отдыхать на взморье, Гвидо был счастлив и взволнован. Он столько слышал о море от Робина: это было так прекрасно, что трудно было поверить. А теперь он сам поедет и увидит это чудо. Как весело он расставался со всей семьей…
Но когда пребывание на море кончилось в синьора Бовди перевезла его в свой дом во Флоренции, он начал скучать по родным. Правда, синьора была очень добра к нему, купила ему все новое, водила пить чай на виа Торнабуони и пичкала пирожными, клубничным мороженым, сбитыми сливками и шоколадом. Но она заставляла его без конца упражняться на фортепиано и под тем предлогом, что он слитком много читает, отобрала все книги Эвклида. А когда он сказал, что хочет домой, она все откладывала отъезд, все кормила его обещаниями и врала без зазрения совести. Она сказала, что не может сразу отправить его, но вот на следующей неделе, если он будет хорошо вести себя и прилежно заниматься музыкой, то на следующей неделе… А когда настало обещанное время, она сказала, что отец не хочет брать его домой. Она удвоила ласки, делала ему дорогие подарки и еще сильней пичкала нездоровой пищей. Но ничто не помогало. Гвидо не нравилась его новая жизнь, он не хотел без конца играть гаммы, томился без своих книг и мечтал вернуться домой, к братьям и сестрам. А синьора Бонди все еще считала, что время и шоколад сделают свое дело и что рано или поздно, но ребенка она заполучит: и чтобы удержать семью на расстоянии, она каждые несколько дней посылала Карло письма якобы с морского курорта и описывала самые радужные картины счастливой жизни Гвидо.
Тогда-то Гвидо и написал мне письмо. Брошенный, как он считал, своими родными, — ведь живя так близко, они даже не потрудились приехать повидаться с ним, и это можно было объяснить только так, что они и вправду отказались от него, — он видел во мне свою последнюю и единственную надежду. Его письмо с фантастическим адресом проплутало почти целых две недели. Две недели… Ему они, наверное, показались сотней лет: века проходили за веками, и бедный мальчик, без сомнения, уверился в том, что и я тоже покинул его. Надежды больше не было ни на кого.
— Это здесь, — сказал Карло.
Я поднял глаза и прямо перед собой увидел огромный монумент. В монолите серого песчаника было выдолблено некое подобие грота, в котором бронзовое олицетворение Святой любви обнимало погребальную урну. На камне бронзовыми буквами была сделана длинная надпись, гласившая, что безутешный Эрнесто Бонди воздвиг этот монумент в память своей, возлюбленной жены Аннунциаты, которую преждевременная смерть вырвала из его объятий и с которой он надеется скоро соединиться под этим камнем. Первая синьора Бонди умерла в 1912 году. Мне вспомнился старик, на привязи у своей белой собаки, и я подумал, что он, видимо, всю жизнь оставался покорнейшим из мужей.
— Они похоронили его здесь.
Мы долго стояли в молчании. Я чувствовал, как при мысли о бедном ребенке, что покоился там, внизу, у меня навертываются слезы. Я вспоминал его лучистые серьезные глаза, прекрасный купол лба, грустно опущенные губы; я вспоминал восторг, освещавший его лицо, когда он радовался новой мысли или слушал звуки любимой музыки. Он мертв, этот чудесный маленький человек, и дух — великий дух, обитавший в его теле, — тоже разрушен, еще до того, как по-настоящему начал существовать.
А горе, которое он должен был испытывать перед роковым концом, а страдания ребенка, глубоко убежденного, что все его бросили, — обо всем этом страшно было думать, просто страшно…
— Давайте лучше уйдем, — сказал я наконец, трогая Карло за руку.
Он стоял как слепой: глаза его были закрыты, лицо чуть приподнято и обращено к свету; сквозь сжатые веки сочились слезы, на миг повисали неподвижно и медленно ползли вниз по щекам. Губы его дрожали, и я видел, как он силится сдержать эту дрожь.
— Пойдемте, — повторил я.
Окаменевшее от горя лицо вдруг исказилось; он открыл глаза — сквозь слезы они горели яростным огнем.
— Я убью ее, — сказал он гневно. — Убью. Когда я думаю о том, как он выбросился из окна и летел… — Руки Карло резко взметнулись, он с силой бросил их вниз и вдруг затормозил у самой груди. — А потом удар… — Он содрогнулся. — Это она виновата, и она ответит, как если бы своими руками столкнула его. Я убью ее.
Сердиться легче, чем скорбеть, — это не так больно. Мысль о мести приносит утешение.
— Не говорите так, — сказал я. — Это нехорошо. Да и бессмысленно. Что толку?
У Карло и прежде бывали приступы отчаяния, когда горе душило его и он пытался как-то спастись. А гнев — самый простой способ бегства от себя. Я и прежде убеждал его вернуться на более тяжкую стезю скорби.
— Бессмысленно говорить так, — повторил я и повел его прочь.
За то время, что мы покинули кладбище и спустились вниз с Сан Миниато до маленькой площади Микеланджело, он несколько пришел в себя. Гнев утих и снова перелился в скорбь, из которой черпал всю свою силу и горечь. На площади мы постояли с минуту, глядя вниз, в долину, на город, лежавший у нас под ногами. По небу плыли облака — огромные, белые, золотые и серые, — между ними проглядывали тонкие полыньи прозрачной синевы. Почти на уровне наших глаз высился купол собора; его громада открылась во всей своей грандиозной легкости и воздушной мощи. Вечернее солнце мягко и в то же время щедро золотило бесчисленные коричнево-розовые крыши города; башни его сверкали, словно инкрустированные старым золотом. И я думал о всех гениях, о всех людях, которые когда-либо жили здесь и, создав удивительные вещи, оставили нам видимые плоды своего духа. Я думал о погибшем ребенке…
Примечания
1
Пойдем, Гвидо. Пойдем играть в солдатики" (итал.).
2
Иди (итал.).
3
Он такой красивый! (итал.).