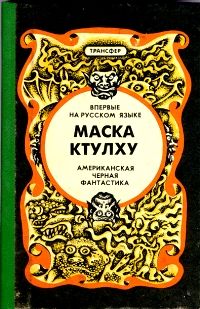Петро Панч - Клокотала Украина (с иллюстрациями)
Гайдуки быстро разделись, взяли по длинной палке и полезли в илистый пруд.
— Прошу пана, да это королевская охота! — крикнул один и ударил по воде палкой. На поверхность всплыл серебристый карп с локоть длиной и перевернулся брюшком кверху. Гайдук схватил его и швырнул на берег, туда, где сидел поляк с корзиной.
Остальные гайдуки тоже захлопали палками. После каждого удара на воду всплывал оглушенный карп, карась или окунь.
— А птица — разве плохая снедь? — сказал другой гайдук и погнался за стаей домашних уток, которые полоскались в ряске.
Утки громко закрякали и бросились к берегу. На их крик появилась между вербами девушка верхом на коне. Русые косы венком лежали на ее голове, продолговатое лицо и тонкий нос с горбинкой были покрыты загаром. Но сильнее всего привлекали в ней большие серо-голубые глаза, затененные ресницами, влажные и прозрачные, как степные озера в ясный день. На девушке была вышитая сорочка, собранная на вздержке вокруг высокой округлой шеи. Тонкий стан обвивала красная окрайка [Окрайка – подпояска, пояс].
Девушка сидела в седле свободно, ловко, совсем как казак. Конь был горячий и нервно натягивал поводья.
Подскакав к берегу и увидев голых людей в пруду, девушка от удивления растерялась и целомудренно опустила глаза. Гайдуки тоже, заметив девушку, от неожиданности замерли с палками в руках, а кое-кто даже стыдливо прикрылся. Первым опомнился пучеглазый Юзек с приплюснутым носом.
— Пан Езус! — прогнусавил он. — Такая краля!
— Иди-ка сюда! — крикнул другой.
— Молчать, быдло! — гневно крикнул ротмистр, быстро застегивая крючки. — Пани, верно, имеет дело до милиции.
— Откуда бы здесь пани взялась? — уже растерянно сказал Юзек.
— Так небось тут уже шляхтич сидит. Прошу, пани...
Девушка, увидев на берегу оседланных лошадей и усатого ротмистра, поняла наконец, что перед ней происходит. Ее глаза потемнели, брови сошлись, и лицо вспыхнуло гневом.
— Вы что тут безобразничаете, будто разбойники! Пруд выпустили! — закричала она, подаваясь всем станом вперед. — Тут вам не хлопский двор! Вон из воды, душегубы!
Ротмистр, будто кот, пойманный в погребе, при первом решительном окрике девушки съежился и начал подавать знаки гайдукам, чтобы те с глаз долой ушли, но вдруг, что-то сообразив, выпрямился, подкрутил усы и насмешливо захохотал.
— Так то ж русинка! Але какие очи, какие уста!
— А стрекочет, как сорока, — добавил Юзек.
Прочие гайдуки тоже опомнились и хохотали уже во весь голос, а в угоду ротмистру еще и заулюлюкали. Девушка ничего больше не сказала, повернула коня и, словно вспугнутая горлинка, вспорхнула и унеслась в степь.
— Юзек, ходзь сюда! — позвал ротмистр пучеглазого гайдука, который гнался за девушкой до самых верб. — Поедешь ко двору пана стражника коронного. Пусть он узнает, сколько будет иметь здесь добра.
— На такое добро наш пан охочий, особливо когда оно беленькое, как гусенок.
Ротмистр подкрутил усы.
— Хорошая дивчина, а пану и так достанется добрый кусок. Скажешь — восемь дворов.
Юзек взял цидулку, и скоро шапка его скрылась в зеленых волнах степи, по дороге на север.
V
За буераком желтела рожь. В этом году хлеба стояли буйные, колосистые. Такому урожаю мог позавидовать любой хозяин на волости. Там шестой год подряд не родит земля, а прошлый год налетела саранча черной тучей, на три версты вширь. Солнце закрыла — аж день почернел; где села, там через час уже лысой стала земля. Такой шум стоял, словно плотину прорвало. А как погнало ее ветром дальше, деревья остались точно обгорелые, и в воздухе стоял нестерпимый смрад.
Косари, сбежавшиеся со всех концов, дивились, слушая казака с тремя борзыми, а в сторонке кучкой стояли вязальщицы и сочувственно кивали головами.
— И народ стал похож на обгорелые головешки, — продолжал казак. — Вовсе голод вокруг. А паны свое требуют.
— Панам нет дела до людского горя, — сказал Мусий Шпичка. Он стоял, опершись на рукоятку косы, голый до пояса. — Все они людской кровью живут. Что-то и казаки обленились, смирными стали, — и глянул из-под брыля на казаков.
Трое казаков стояли возле своих коней, а четвертый сидел на снопе и сосал люльку.
Казаки вынырнули из ковыля, как из-под земли. На них были запыленные жупаны и бараньи шапки с красными шлыками, а за поясом торчали пистоли. У двух на боку сверкали насечкой турецкие сабли.
Верига был взволнован появлением гостей и любовно смотрел на казака с люлькой: острые глаза его, как ножи, сверкали из-под нависших бровей, а по обе стороны крутого подбородка двумя упругими змейками спускались усы.
— Вот ты каким стал, Максим, — сказал Верига. — Встреть я тебя на дороге — не узнал бы. Где ж ты пропадал? Спрашивал я у людей. Одни говорят — на Сечь подался Кривонос, другие — будто аж во Франции воюет. Правда это?
— Правду говорили люди.
— И во Франции был?
— Гишпанца воевали в Дюнкирхене. Казаки и прогнали гишпанца, хотя нас было всего две тысячи. А француз до сей бы поры возился.
— Почему так?
— Не умеет сердиться француз — нрава веселого.
— Как же ты сюда, на хутор, попал? Мы думали, нас только птицам видно, потому до сих пор ни один дозорец не набрел.
— Кирила Кладиногу встретил, кобзаря.
У Вериги с надеждой забилось сердце.
— Может, сватом приехал, — сказал он будто в шутку, хотя у самого даже дух захватило.
Вместе с Кривоносом прибыл казак, по всему видно — именитый. Он был моложе Максима, но такой же высокий, стройный и гибкий, с насмешливыми глазами. Опершись на седло, казак иронически улыбался тонкими губами. От каждого движения под жупаном играли тугие мускулы.
Кривонос не то не расслышал, не то не понял вопроса, и Верига снова спросил:
— В науку на Сечь везешь?
— Остап еще других научит.
— Чужой?
— Не узнаешь Бужинского семени?
Верига вспомнил шляхтича, который одно время казаковал, и сказал:
— Вот какого рода! Такому казаку нужна и казачка под пару. Или, может, женат?
— Для казака сабля на боку — верная жена, — ответил Кривонос и залюбовался Остапом: статный парубок!
Мусий Шпичка снова спросил:
— А что ж это, паны вовсе верх взяли, что уже реестровых к собакам приставили?
— Ведь сила-то у них, — сердито пробормотал тощий казак с борзыми.
— Бегите, как мы, — посоветовал Гаврило. — Свет велик, поля много.
— А они жену и детей на виселицу потащат.
— Мало еще таскают, коли терпите, — вставил хмурый джура, стоявший у коня.
— Раз право только для шляхты, так ничего тут не поделаешь: хочет — милует, хочет — казнит.
Максим вынул изо рта люльку и повел глазом.
— Куда псов тащишь?
Тощий казак толкнул ногой борзую — та даже тявкнула.
— Чтоб они подохли вместе с панами: полковник черкасский хочет презент уманскому сделать, а ты глотай стыд, ноги труди. Счастье еще, что сейчас тепло; других в такой холод посылает, что птица на лету падает.
— Это еще добрый полковник, хоть верхом на вас не ездит.
— А в Лубнах уже, говорят, ксендз запрягает хлопов православной веры, чтобы его возили, — сказал косарь.
— Почему же и не ездить на дураках?
Женщины даже перекрестились и уже тревожно посматривали на казаков. Переглянулись и косари. Вериге стало неловко за гостей. Казаки издавна недолюбливали гнездюков-гречкосеев, но в неучтивости их обвинить нельзя было. Разве уже на Сечи стали забывать казацкий обычай? Воцарилось тяжелое молчание. Гордий Недорезанный раздраженно сказал:
— Что же ты поносишь нас, пане атаман? Мы неоружны, а может, и умишка не хватает, а вот как вы допустили, чтобы Конецпольский гетман свернул шею казацкой вольнице? Слыхали мы, что он послал свое войско на Запорожье и Кодак-фортецию поставил, чтобы вы на волость и носа не казали...
— А еще над нами насмехаетесь, — колко добавил Шпичка, почуяв поддержку. — У самих уже не хвост, а одна репица.
— Вы теперь без дозволения шляхты даже татар пугнуть не смеете. А сюда паны не отважатся прийти — тут земли вольные, народ сердитый.
Максим попыхивал люлькой и только поглядывал то на Шпичку, то на Гордия, но Остап даже в лице изменился.
— А кто подвел Павлюка под Кумейками или Остряницу под Лубнами? — сказал он гневно. — Гречкосеи первые благим матом закричали, испугались. Устояли бы на реке Старице, не дошло бы до ординации. Может, и все двенадцать тысяч имели бы в реестре.
Гаврило скривил пересохшие губы и неприязненно посмотрел на Остапа.
— Хотя бы и дважды двенадцать, милостивый пане, — а что из того посполитым? Как были быдлом у панов, так и остались. Ни Павлюк, ни Остряница — никто из них не встал на защиту нашего брата мужика. Вот вы какие рыцари!