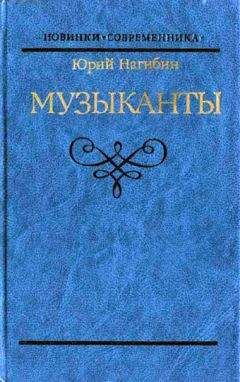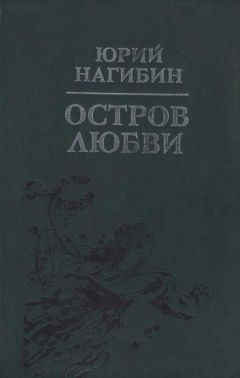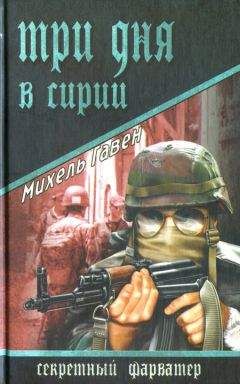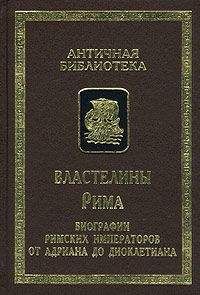Юрий Нагибин - Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана
— Я люблю холодный кофе, но еще больше — горячий, — сказал он официанту, — особенно когда за него платит господин Мольнар.
— Услышим мы про Никиша или нет? — не выдержал Якоби.
— Какой ты нетерпеливый, Виктор! — Кальман с наслаждением отхлебнул горячего ароматного кофе и стал обрезать кончик сигары. — Никиш жил в отеле «Четыре времени года». О, это человек! Я принес ему «Сатурналии». Великий дирижер и безвестный композитор сидели рядом, он читал партитуру, что-то бормотал, порой напевал, размахивал руками, а я не смел дышать. «Хорошая работа, малый! — сказал он от души. — Нужно и впредь быть таким же прилежным. Как тебя зовут, сын мой, я что-то запамятовал». Он спрашивал меня об этом уже в третий или в четвертый раз, и я гаркнул изо всех сил: «Эммерих Кальман». «Хорошо звучит, мой мальчик, но я не страдаю глухотой, как Бетховен. Так вот запомни: оркестр — это альфа и омега музыки. Ты и должен его знать от альфы до омеги. С завтрашнего дня я начинаю дирижировать „Мейстерзингерами“, приходи, я посажу тебя в оркестр — к скрипкам. Следующий раз — к ударным, потом — к духовым». Он выполнил свое обещание. Смотреть, как он дирижирует, — райское наслаждение.
— Я думаю! — пылко воскликнул Якоби. — Он несомненно полюбил тебя.
— Да. Я глубоко запал ему в душу. Когда мы расставались, он спросил, как меня зовут. Я тихо ответил: Виктор Якоби.
— Вот нахал! — вскричал Якоби.
— Никиш поглядел на меня пристально и сказал: зачем же вы подсунули мне сочинения какого-то Кальмана?.. Расстались мы душевно, но помочь мне в издательских делах он наотрез отказался: «Это безнадежно. Кому нужна сейчас серьезная музыка?» Но после его похвал я вновь обрел уверенность и принялся обходить мюнхенских издателей. Эти негодяи даже не стали со мной разговаривать.
— Неслыханно! — произнес Ференц Мольнар — не понять, всерьез или в шутку. — Не стали разговаривать с автором «Сатурналий», с самим Эммерихом Кальманом!
— Пусть они не слышали моего имени, музыка говорит сама за себя. Неужели «Сатурналии» и «Принц Эндре» так и будут валяться в моем письменном столе?
— Невероятно! — откликнулся хор.
— Если дальше так пойдет, я сделаю что-то ужасное, — зловеще произнес Кальман и отхлебнул кофе.
— Кого-нибудь убьешь?.. Наложишь на себя руки? — поинтересовался Мольнар.
— Хуже… — и Кальман сказал загробным голосом: — Я напишу оперетту.
Собеседники Кальмана отозвались стоном на эту чудовищную угрозу. Взгляды посетителей дружно обратились в их сторону. Ференц Мольнар сделал вид, что лишился чувств…
Поначалу ничто не предвещало того, что Кальман всерьез намерен осуществить свою ужасную угрозу. Напротив, словно испугавшись кощунственных речей, он налег на серьезную музыку: создал несколько «возвышенных» номеров для патриотической комедии «Наследство Переслени», посвященной народному герою Венгрии Ференцу Ракоци и его сподвижникам-куруцам, симфоническую мелодраму, которой сам дирижировал, и тут поступило неожиданное предложение от довольно известного издателя сочинить песенку для нового кабаре. И хотя автором текста был его приятель, талантливый Хелтаи, Кальман почувствовал себя оскорбленным. Ему, автору «Сатурналий», «Эндре и Иоганны», предлагают унизиться до шлягера, к тому же в тайном соперничестве с другими композиторами, видать, издатель не слишком-то доверял его способностям. От закрытого конкурса с премией в сорок крон Кальман с негодованием отказался, но песенку на слова Хелтаи написал… через час после разговора с издателем.
Он и сам не мог взять в толк, как это произошло. В голову назойливо лезли задорные куплеты со смешным припевом: «Я комнатная киска Шари Фёдак». Красивая, осанистая и при этом живая, как ртуть, Шари была звездой будапештской оперетты и варьете. Музыка возникла будто сама собой, без того высокого, но тягостного напряжения, которое требовалось для симфонических поэм, скерцо и сонат. Те дети рождались в мучительных потугах, этот младенец сам выскочил на свет божий. «Тут нет творчества, — решил Кальман, — просто игра», но песенку все же отнес в издательство. Случайно там находился Хелтаи. Издатель и поэт пришли в неописуемый восторг. Кабаре «Бонбоньерка» вскоре открылось, и гвоздем программы стала песенка «про комнатную киску Шари Фёдак». Ее запел весь город, и Кальман испытал сложное чувство удивления, легкого стыда и сожаления, что скрыл свое авторство под псевдонимом. Все-таки нелегко после песен о бесстрашных куруцах воспевать кошечку опереточной дивы. Но сожаление усилилось, когда блистательная Шари услышала эту песенку и забрала себе. В первом же ревю Королевского театра Фёдак — в забавной маске, с таксой Буберль, в роли кошечки, на руках — с оглушительным успехом исполнила эту пародийную песенку. Безымянный автор шлягера стал самым популярным композитором в столице Венгрии. Свою следующую песенку, написанную также в содружестве с Хелтаи, Кальман, отбросив ненужную щепетильность, выпустил под собственной фамилией и не прогадал — новый шлягер затмил первый…
Сочинять такие веселые, искристые мелодии — одно удовольствие, но точила мысль, что это измена своему предназначению, святой муке творчества. Ведь творчество — это тяжкий труд, бессонные ночи, черный пот неудач, изнурительных преодолений. А тут без всяких усилий с твоей стороны начинал бить музыкальный фонтанчик, успевай лишь подставлять ладони под сверкающую струю.
Оказывается, вселенная напоена дивными мелодиями, надо только уметь расслышать их в какофонии безалаберного бытового шума суетливой жизни. Ни к чему «придумывать» созвучия, искусственно возбуждая в себе творческий стимул вспоминанием древних напевов, находок великих предшественников, уроков сурового профессора Кесслера, неистового почитателя немецких романтиков; откройся потоку ликующих звуков, даруя им всеобщую жизнь в целостной, совершенной форме.
Когда Кальман принялся за первую свою оперетту «Осенние маневры» (в начальной редакции — «Татарское нашествие»), охмеленный все той же победной легкостью, его вдруг осенило: а что, если и великие: Бетховен, Шуман, Лист, Чайковский — именно так создавали свои бессмертные творения — не вымучивая величественный громозд из дремлющей души, а выражая себя напрямик с естественностью дыхания. Это откровение подарило ему крылья, и захотелось навсегда сохранить окрыленность. С симфоническими и сонатными упражнениями было покончено.
Ах, какое облегчение он испытал, соединившись с собой настоящим в том светлом мире, где горе и напасти преходящи, где страдания отступают перед напором побеждающей радости, где любую беду, любую печаль ничего не стоит переплавить в солнечное золото. Следует сказать, что внутренняя перемена почти никак не отразилась на его внешнем поведении. Взгляд его оставался печальным, он по-прежнему не ждал милостей от судьбы.
Встреча с театром отнюдь не способствовала пробуждению оптимизма. Прекрасное кончилось, когда он поставил точку в партитуре. Правда, потом оказалось, что это весьма условная точка. А дальше… Прежде всего — оперетту негде поставить. Старый друг, директор Ласло Беоти, отказал в дебюте молодому безвестному сочинителю музыки, в которого мгновенно превратился «самородок» Кальман, как только осмелился предложить свою «скороспелку» Королевскому (!) театру. Конечно, Беоти облек свой отказ в любезнейшую форму, он даже не отказал, а дружески предупредил Кальмана, что репертуар забит, а на очереди — несравненная «Греза вальса», вот если потом… Но как ни зелен был Кальман, он хорошо знал, что значит директорское «потом». «Старую лису не поймаешь в самодельный капкан», — посмеивались в кофейнях, узнав о ловком отказе Беоти. «Старик пошел в церковь возблагодарить святого Антония, что тот помог отделаться от ребяческих упражнений Кальмана», — острили в канун премьеры. «Беоти небось рвет на себе остатки волос», — зубоскалили те же остряки во время премьеры, состоявшейся в Театре комедии. Да, первая оперетта Кальмана «Татарское нашествие» была поставлена на сцене драматического театра.
Но до того как она состоялась, Кальман прошел через все круги ада, кошмары, напоминающие больные видения Иеронима Босха. Актеры издевались над ним, как хотели. Последний удар нанесла примадонна Корнаи, исчезнувшая перед самой премьерой. До этого она заявила, что ее выходная песенка никуда не годится, разрыдалась, надавала пощечин директору, была уволена и скрылась невесть где. Трясясь в наемном фиакре от одного предполагаемого убежища дивы к другому, Кальман научился записывать ноты на манжетах. Он сочинял новую выходную арию. С примадонной дело было наконец улажено, а Кальман утратил остатки доверия к жизни.
И все же наступило то неправдоподобное утро, когда позади осталась премьера с бесконечными вызовами, цветами, овациями, затянувшийся на всю ночь банкет — праздник победы — с речами, слезами и поцелуями, с сенсационным сообщением Мольнара, что Беоти нашли повесившимся на театральной люстре, и одуревший не от вина (он почти не пил), от усталости и успеха, оглушенный восторженными речами, помятый дружескими объятиями, зацелованный сладкими губами актрис, источавшими прежде лишь змеиный яд, Кальман обнаружил, что в полном одиночестве бредет по улице в сторону своего дома.