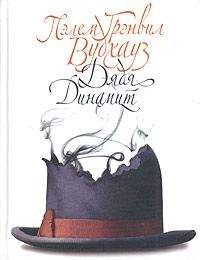Леонтий Раковский - Кутузов
…Кутузов проснулся.
Сразу же после сытного обеда и кофе он лег в палатке отца спать — валился от усталости.
Вечерело.
Отец — уже в сапогах и мундире — ходил возле палатки. Его седые клочковатые брови были сдвинуты: старик явно был чем-то недоволен.
Михаил Илларионович сел на постели:
— Эх, хорошо отдохнул! Теперь надо поехать к своим егерям — посмотреть, как там они. Сегодня мои ребята показали себя молодцами!
— Тебе придется ехать немного подальше, — многозначительно сказал отец.
— Куда? — с удивлением посмотрел Михаил Илларионович.
— Какие у тебя счеты с этим Анжели?
— Никаких.
— А почему он так зол на тебя?
— Не знаю… Может, за то, что я сказал, что он — трус? А в чем дело? — встал с постели Михаил Илларионович.
— Анжели переписывал убитых…
— Это по его разумению…
— Докладывал командующему о потерях, а заодно и наябедничал на тебя. Мне только что генерал Ступишин сказывал.
— С Анжели всего станется. Что же он плел?
— Что ты осуждаешь действия Румянцова, говоришь, что Румянцов храбр умом, а не сердцем!..
— Так это же не я сказал, а царица! Все знают! И что в этом поносного?
— Знают, а тебе-то пересказывать зачем? Природа не зря дала человеку два уха и только один рот. Приучайся, Михайло, больше слушать, а меньше говорить. Понял? — наставительно сказал отец.
— Понял! — ответил Михаил Илларионович. — И что ж, Петр Александрович разгневался? — спросил он немного погодя.
— Разгневался. Знаешь: ведь он сам осторожен в словах. Сказал: отправить немедля этого новоиспеченного стратега в Крымскую армию.
— Ну что ж, в Крым так в Крым! — ответил несколько смущенный Михаил Илларионович и вышел из палатки.
Но этот урок и мудрые слова отца Кутузов запомнил на всю жизнь.
Глава вторая
ФОНТАН СУНГУСУ
Гренадеры целое утро стреляли в цель.
Два раза в неделю из гренадерского батальона Московского легиона выводили в степь на учебную стрельбу одну роту. Гренадеры шли с ружьями и патронными сумками, но без шпаг и гранат.
Батальон был составлен из молодых солдат, и его командир, двадцативосьмилетний подполковник Михаил Илларионович Кутузов, старался обучить своих солдат получше.
— Заряжать умеете, так думаете, остается только палить? Нет, надо раньше научиться стрелять! — подчеркивал он.
Кутузов строго предупреждал сержантов и капралов учить солдат терпеливо, не давать воли ни языку, ни рукам.
— Руганью да кулаком учит только лентяй или мало знающий сам! — говорил подполковник.
Он приказывал солдатам беречь патроны.
— Патроны сами не растут. Их надо беречь! В бою сколько хочешь патронов никто не даст!
Стреляли поодиночке в двухаршинные щиты, выкрашенные черной краской. Посредине щита шла узкая — в четыре вершка — белая полоска. В нее-то и надо было попасть. Щиты ставили сначала в сорока саженях, потом в восьмидесяти и наконец относили за сто двадцать сажен так, что белая полоска, казалось, и вовсе пропадала.
Офицеры ходили по капральствам и показывали, как надо прикладываться, как правильно целиться: не шевелить ни головой, ни ружьем, за "язычок" не дергать.
За всем неотступно следил сам командир батальона Михаил Илларионович.
И гренадеры день ото дня стреляли все лучше.
Другие командиры частей Крымской армии Долгорукова, стоявшей лагерем у деревушки близ Акмечети, не обучали своих солдат стрельбе. На вопрос молодого командира московцев они отговаривались по-разному.
— У меня солдаты обстрелянные, старые, а у вас, Михайло Ларионович, молодые. Им полезно! — говорил один.
— Разве наших пентюхов выучишь стрелять цельно? — нелепо отвечал другой.
— Да ведь у нас, в Крыму, войны-то нет. Это не на Дунае! — возражал третий.
На Дунае действительно шла настоящая война.
Восемьсот лет русские войска не переходили Дунай. Фельдмаршал Румянцов, впервые после князя Святослава, не только закрепился на его берегах, но и перешел через Дунай.
А генерал Суворов прекрасно продолжал румянцовские победы: бил турок у Туртукая, Гирсова и Козлуджи.
В Крыму ждали со дня на день заключения мира с Оттоманской Портой. Крымские татары уже три года считались не зависимыми от Турции. Все знали, что султан не признает ханом Саиб-Гирея, утвержденного русскими, и что в Константинополе сидит и ждет, когда русские будут изгнаны из Крыма, Девлет-Гирей, которого султан назначил Крымским ханом.
А сами крымские татары держали себя так, словно они тут ни при чем. Молодые, надвинув на лоб низкую барашковую шапку и накинув на плечи бурку, под которой наверняка скрывалась кривая сабля, ездили верхом по своим делам. А старые, поджав ноги, отсиживались в кофейнях, а в благостные предзакатные часы выползали на плоские кровли домишек и, покуривая, бесстрастно смотрели сверху вниз.
Женщины — по восточному обычаю — не показывались вовсе на глаза, лишь изредка за глинобитным плетнем мелькал розовый бешмет и малиновая бархатная шапочка.
Глазастые, загорелые татарчата, увидя русского, кричали "хазак, хазак" и мгновенно исчезали в кустах, как ящерицы.
А муэдзин пронзительно, заунывным голосом что-то возглашал с высокого минарета. Но кто мог знать, к чему он звал правоверных в этот наполненный мелодическим треском цикад и терпким запахом полыни тихий вечер. Стоял томительно жаркий, сухой крымский июль, с ясным, безоблачным небом, раскаленными, горячими ветрами, веющими из прожженной солнцем степи, с внезапно падающей на землю густой чернотой ночи, когда часовой должен напрягать зрение, чтобы в пяти шагах рассмотреть, кто идет.
Подполковник Михаил Кутузов переходил от одной группы гренадер к другой. Наблюдал, как стреляют, поправлял. Иногда, поворачиваясь, он невольно смотрел туда, где за степью, в далекой синеве, чернел Чатырдаг, или, как называли его русские солдаты, Чердак. Где-то там немолчно шумело, билось в берега бирюзовое море, а здесь расстилалась скучная, сухая степь. Становилось жарко. Вода, принесенная в ведерке из лагеря, невкусная, солоноватая вода, и та уже вся вышла. Люди утомились, и пули чаще шлепались в пригорок, чем в белую полосу мишени.
— Вольно! — скомандовал подполковник. — Отдохните, ребята! Брусков, сбегай-ка за водой! — приказал он капралу. Он знал всех своих гренадер-московцев по фамилии. Михаил Илларионович запомнил мудрый совет фельдмаршала Румянцова: поближе узнавать своих солдат. Подполковник Кутузов звал гренадер к себе в палатку и подолгу, запросто беседовал с ними о доме, о семье.
При команде "вольно" гренадеры начали проворно ставить ружья в козлы, оживленно переговариваясь:
— И до чего пить хочется! Теперь, кажется, напился бы даже ихней "язвы". ("Язвой" солдаты звали язьму, любимый татарский напиток из разбавленного водой кислого молока с тертым чесноком.)
— Тьфу, пакость! Словно в прогорклую простоквашу натолкли мелу!
— Буза[3] у них лучше!
— А ветер сегодня какой горячий, ровно из бани, — говорил гренадер, снимая гренадерку и вытирая потный лоб.
— Эх, жалко: нашей, русской баньки нет!
— И так паришься кажинный день! Айда, ребята, в тенек! — сказал капрал.
И гренадеры побежали в тень пригорка к мишеням.
— Вот моя пуля! — тыкал пальцем в белую полоску мишени один гренадер.
— Ты, брат, ловок только ружейные приемы отхватывать, а в стрельбе еще слаб! Твоя вон где! — садясь, хлопнул по земле капрал.
Все рассмеялись, рассаживаясь на выжженной, желтой и жесткой траве.
— На такой травке-муравке не разлежишься!
— Да, здешнее сенцо не возьмешь в руки: пальцы сразу наколешь.
— И скажи, как только его скотина ест?
— Верблюд жрет за милую душу. У него язык и губы жесткие, ему хоть бы что: бурьян так бурьян!
— Верблюд скотина особая. У него все иное. И ревет он ровно дитя, и зрак не такой, как, скажем, у коня.
— У коня зрак веселый. Конь человека любит. А энтот горбатый черт смотрит на тебя, как на недруга, с презрением.
— Братцы, а я вчерась видал, как в деревне вола подковывали.
— Да ну?
— Ей-богу! Связали сердешному ноги, опрокинули на спину. И лежит вол — ноги кверху…
— И на сколько же подков ковали?
— На восемь.
— Чтоб ему по горам способнее было ходить…
Офицеры — командир роты, капитан и восемнадцатилетний голубоглазый подпоручик — стояли вместе с подполковником, сняв гренадерки.
— Ну как, Павел Андреевич, привыкаете? — спросил Кутузов у своего любимца подпоручика Резвого, который недавно прибыл в армию.
— Привыкаю, господин подполковник.
— С ним вчера приключение случилось, — улыбнулся капитан.
— Какое?
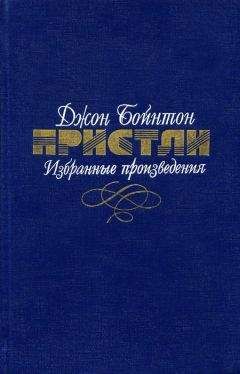
![Вера Кауи - Такая как есть [Запах женщины]](/uploads/posts/books/6935/6935.jpg)