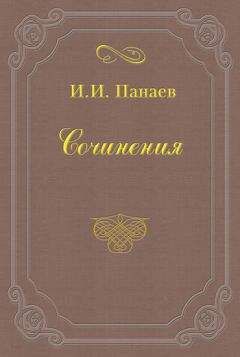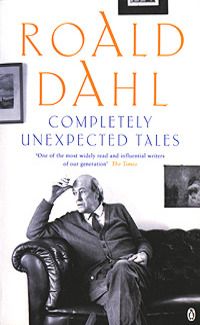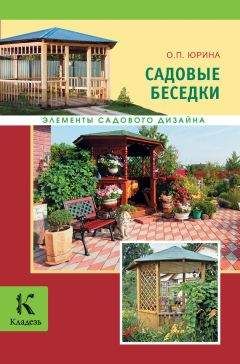Сергей Мосияш - Святополк Окаянный
— Хорошо, отец, схожу к печенегам.
В два дня вооружил полк и во главе его выехал на юг встречать набег поганых, если таковой случится.
Теперь на Новгород не с кем идти, надо ждать возвращения Бориса с дружиной. На беду свою, Владимир не порвал грамоту Ярославову, не бросил в огонь ее. Надеялся, захватив неслуха, ткнуть в нос ему этой срамотой, устыдить.
И ночью в своем дворце в Берестове при тусклом свете свечей вынул ее, стал перечитывать. И чем дальше читал, тем сильнее в голове шумело.
«Ах, Ярослав, Ярослав, голова непутевая, неблагодарная. Ты ж отцу нож в спину всаживаешь!» Так подумал Владимир и даже ощутил боль меж лопаток, словно там действительно нож был. В глазах потемнело, и огоньки свечей обратились в искорки. Чувствуя, что теряет сознание, Владимир закричал. В покои вбежал слуга постельный, увидев князя лежавшим поперек ложа, кинулся назад, растолкал в соседней комнате лечца:
— Скорей! С князем худо!
Вдвоем они уложили князя головой на подушку, лечец разорвал ему сорочку, стал грудь ему тереть, крикнул постельнику:
— Воды! Скорей воды холодной.
Однако когда тот явился с водой, князь уже был мертв. Лечец стоял над ним в растерянности.
— Зови Анастаса.
Поскакали в Киев за Анастасом. Он приехал, и первое, о чем спросил лечца:
— Что он сказал перед концом?
— Ничего. Он был без памяти.
— Держите это в тайне Пока. Я соберу бояр.
Анастаса обеспокоило, что великий князь умер, не назвав того, кому киевский стол оставляет. По русскому обычаю, должен стол старший сын наследовать. Значит, Святополк. Но он только что из поруба выкарабкался и ныне под гневом отцовым живет.
Ярослав? Так этот родному отцу намедни врагом объявился, собирается Новгород от Руси оторвать, стало быть, на Киев меч подымает. Какой он великий князь после всего этого?
Борис! Вот из всех — лучший правитель на киевском престоле. Конечно, еще молод. Но зато был самым любимым сыном Владимира. Да! Он к тому же и багрянородный, царских кровей!
Бояре съехались уже перед рассветом, входили, крестились на образа, толпились у ложа умершего. Перешептывались:
— Что делать? Святополк в Киеве может стол захватить.
— Не посмеет. Дружина-то с Борисом ушла.
— Эх, утаить бы хоть с недельку. Бориса позвать.
— Давайте, пока темно, увезем его.
Таясь от всех, даже слуг дворцовых, прорубили пол в переходе, завернули тело в ковер, спустили на веревках на землю. Положили на сани, повезли в Киев.
Привезли в Десятинную церковь, когда-то построенную стараниями Владимира, положили на стол перед аналоем. Возожгли свечи, подняли митрополита.
Тайна оказалась шилом в мешке. Из Вышгорода прискакал Святополк с милостниками. Сняв шапку, вошел в церковь, остановился у гроба отца, но вскоре вышел из церкви, подозвал Волчка:
— Бери отроков, скачите в Василёв, догоните Бориса. Скажите, умер отец, пусть возвращается.
Рассвело, и уж весь Киев знал: умер великий князь Владимир Святославич. Потянулись все к Десятинной прощаться с благодетелем и защитником, кормильцем сирых и убогих. Плач, похожий на вой, стоял окрест:
— Закатилось наше Солнышко-о-о!
И эти слова срывались с губ искренне, не льстиво. И становилось холодно, знобко от мысли такой даже посередь лета. А может, знобило людей от предчувствий худых? Может.
Толпа, она многое из грядущего нутром чует.
На Парамоновом дворе
Парамонов двор в Словенском конце Новгорода недалеко от Торга. Место бойкое, веселое. И сам Парамон — человек известный в Новгороде, уважаемый. Вятший, как тут говорится. Да и как не уважать, если у него на Торге более пяти лавок своих в рядах Кафтанном, Овчинном и Харалужном. Есть и земля своя за городом, и деревенька. И в доме у него не менее десяти холопов управляются: кто в хоромах, кто на конюшне, и даже есть холоп кузнец собственный Епиха, здоровенный бугай с силой немереной, если примется в кузне по наковальне молотом бить, так в трапезной тарели и чашки брякают.
Хозяин любит Епиху, ценит, и тот отвечает ему беззаветной преданностью и уж Парамонове добро стережет не хуже двух цепняков приворотных.
Живут с Парамоном два сына-погодки, Анфим и Антоний, и дочь, красавица Олена, любимица отцова. Если Олена на Торге у отцовых лавок появляется, то молодые гости себе шеи сворачивают, глаз с нее не спуская, языками прицокивают:
— Вот девка! Кому-то достанется!
— За ней, сказывают, Парамон лавку в Кафтанном отдает.
— Я б и без лавки таку-то взял.
— Ишь ты, позарился.
— А что? На красавицу всяк зарится.
— Да не всякому светится.
Парамон знает об этих разговорах завистливых, чай, не слепой, не глухой, но отдавать дочь замуж не торопится.
Подсылал к Парамону Угоняй узнать, как он посмотрит, ежели Угоняй к нему сватов зашлет сватать Олену за сына его Ефима, Хорошо, что сватов не послал, а то б позору не обобрался Угоняй. Парамон отказал наотрез:
— Это чтоб я да Олену за Ефимку? Никогда. Что я, своей дочери враг, что ли?
— Но Угоняй же не обсевок какой. Боярин, тысяцким сколь лет был. Две деревни свои. Холопьев с полсотни.
— Ну и что? А сынок запердыш, Олене едва по плечо будет.
— Верно, ростом не вышел, но не беден же.
— Нет, нет, нет. Передай Угоняю, я его уважаю, но Олену погожу выдавать.
Посыльный передал Угоняю отказ, и даже о «запердыше» не забыл упомянуть. Пришлось Угоняю раскошелиться, чтобы заткнуть рот посыльному.
— Вот те гривна, но чтоб сего слова срамного нигде боле не сказывал да и о деле самом помалкивал.
— Замкну уста, — обещал тот. И замкнул, даже после смерти Угоняя никому о том не рассказывал.
В канун Купалы вздумали старшины рядов торговых братчину устроить. Все они люди житые[106], уважаемые. Скинулись — с каждого по гривне, получилось более сорока, лишь с Парамона платы не потребовали, потому как на его подворье решено было и праздновать. Оно и недалеко от Торга, а главное — у Парамона трапезная едва ли не в полдома, туда не то что сорок, а и все сто гостей влезут.
С самого ранья на подворье Парамона суета, в поварне дым коромыслом. Пекут, варят, жарят для застолья. Холопы трапезную украшают ветками березовыми, столы расставляют, лавки. Меды на стол несут в туесах и корчагах.
Епихе велено псов-цепняков от ворот убрать, запереть в дальней клети за кузней, чтобы гости входили во двор без опаски. У Парамона свои и музыканты из холопов — гусляр Кваша и тимпанщик Тишка. Братчина предстояла веселая.
После обеда уж стали являться гости дорогие, Парамон сам встречал каждого на крыльце высоком, обнимал, а некоторых и лобзал, словно век не виделись, хотя утресь на Торжище кланялись друг дружке. Но здесь особая стать. На братчине каждый должен благорасположение казать: хозяин — гостю, гость — хозяину.
Столы в трапезной глаголем составлены вдоль стен, чтоб оставалось широкое место слугам подбегать и подносить гостям новые закуски и корчаги с медом, а главное, чтоб было где и поплясать, ежели кому схочется.
Первую чарку Парамон как хозяин предложил выпить за братство купеческое: «На котором град сей стоит и стоять довеку будет».
После второй чарки, выпитой во здравие присутствующих, оживилось застолье, загудело разноголосо:
— Нет, ты мне скажи, прав я или не прав?
— А он мне куны в нос сует.
— Она как вскочит да как заорет.
— Ну, евоную девку рази сравнишь.
— Обкосили мы луговину, а там глядь…
— Ударили мы по рукам, стал быть.
— Нет, ты мне сперва товар кажи.
— Куды прешь? Куда прешь, говорю.
Парамон, сидевший во главе стола, слушал эту хмельную разноголосицу, видел раскрасневшиеся лица гостей, их руки, сновавшие над тарелями, чавкавшие рты и был доволен, что все идет ладом, что здесь все свои, что и еды и питья на столах вдоволь. Поймав вопросительный взгляд гусляра Кваши, кивнул разрешительно: «Начинай».
И гусляр заиграл песню, всем знакомую и присутствовавшими любимую. Говор за столом стал стихать постепенно и вот уж слышны лишь сладкозвучные гусли. И тут звонкий голос старосты Овчинного ряда Найды запел под знаемый мотив:
Ох выплывали стружки крутоскулые.
Что товары везли заморские.
И хмельное застолье подхватило дружно и мощно:
Что не мерены рытые бархаты,
Что мечи и ножи харалужные,
Что бочонки с хмельными винами,
Что рабыни — красавицы писаны.
Славно голоса на братчине слажены: и тонкие соловьиные, и низкие басовитые так мотив ведут, что сквозь них едва гусли пробиваются, да и то лишь на редких паузах, когда поющие делают вздох для следующего дружного взрыва:
Налетели на это богачество
Не князья и бояре русские,
А лихие лесные разбойники,
У которых не куны, а палицы.
На оплату готовы кровавую —
Угощенье гостям незавидное.
И вот уж по лицу старосты Льняного ряда Ивана Звона текут благостные слезы: ведь в песне едва ли не о нем самом поется. Три года тому назад на лесной дороге налетели на его обоз разбойники, все до нитки отняли и едва самого живота не лишили. И вот песня Звону о том страшном напомнила. Если б не братчина, нищим бы стал Звон. Братчина сложилась, выручила, с любым ведь может такое случиться. Как не выручить своего же товарища?