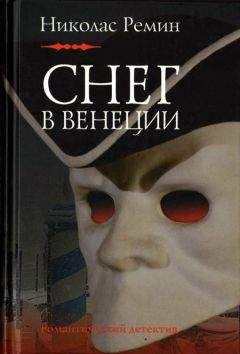Петр Краснов - Цареубийцы (1-е марта 1881 года)
«Все это о себе», — подумала Вера и, пропустив несколько строк, продолжала читать грязно отпечатанный лиловыми маркими чернилами на гектографе листок.
«…Отца Вашего, Царя Русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества».
«Если можно убивать и прощать убийц, убивших во имя блага, — подумала Вера, — а кто знает, где и в чем благо человечества? — то уж, конечно, можно убивать на войне во имя блага и свободы славян… Во имя того же блага — можно и казнить… Войны и казни будут оправданы, и кто разберется в том, кто убивает правильно, и кто — нет?»
Она читала дальше:
«…Вы стали на его место, и перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. Они враги ваши потому, что вы занимаете место вашего отца, и для того мнимого общего блага, которое они ищут, они должны желать убить и вас. К этим людям и душе нашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла». «Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы Русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов. Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца. Этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия…»
«В этом-то искушении и состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа».
«Я не говорю о Ваших обязанностях Царя. Прежде обязанностей Царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанностей Царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении обязанности Царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нами и те страшные минуты искушения, которые выпадают на долю людей. На нашу долю выпало ужаснейшее из искушении…»
Письмо Толстого произвело на Веру страшное впечатление. Она замкнулась в своей комнате, достала забытое последние годы Евангелие и стала листать его, прочитывать то одно, то другое место, и потом долго сидела, устремив глаза в пространство.
«Царство Божие не от мира сего»… «Царство Божие внутри нас»… «Воздадите Кесарево Кесарю, а Божие Богови»… Предсмертная беседа Христа с Пилатом — все это получало после письма Толстого совсем другое освещение.
По Евангелию — перед Богом ответит Государь не как христианин, а как Государь. «Кому много дано, с того много и взыщется»…
Если каждый скажет: «Я христианин и живу по Евангелию, никому зла не делаю и за зло плачу добром», — так ведь тогда рухнет государство и зло восторжествует в мире потому, что все люди от природы злы. Толстой проповедует ту самую анархию, о какой говорил Вере князь Болотнев.
«Все та же ложь, — подумала Вера, — в письме Толстого та же ложь, что и в прокламациях Исполнительного комитета партии Народной воли. Каждый гнет туда, куда ему это хочется… И что же будет, если полиция, суды, солдаты, офицеры вдруг станут прежде всего христианами и во имя непротивления злу перестанут преследовать разбойников и убийц? И что же дальше, какой же выход для Царя?»
Вера читала письмо.
«… Не простите, казните преступников — вы сделаете то, что из числа сотен вырвете трех-четырех, и зло родит зло, и на место трех-четырех вырастут тридцать-сорок, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, — минуту, в которую вы могли исполнить волю Бога и не исполнили ее, и сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завязнете в делах зла, называемых государственной пользой».
«Простите, воздадите добром за зло, и из сотен злодеев перейдут не к вам, не к нам (это неважно), а перейдут от дьявола к Богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с Престола в такую страшную для сына убитого отца минуту…»
— Не так!.. Не так, — прошептала Вера, отрываясь от толстовского письма.
Она знала этих людей. Одних знала лично, о других много слышала от Перовской и Андрея. Среди всех них, может быть, только Тимофей Михайлов понял бы прощение и исправил бы свою жизнь. Прощенный Рысаков всю жизнь пресмыкался бы, вел грязные и подлые дела… Кибальчич — маньяк. Простите его и скажите ему — мы дадим тебе средства построить летучий корабль, но с тем, что ты сбросишь с этого корабля бомбы на дом того самого Царя, который простил тебя, Кибальчич ни на минуту не задумается сделать это.
Толстой говорил о Боге и о Христе, но Толстой не знает того, что знает Вера. У этих людей нет ни Бога, ни Христа, у них нет и совести. Они все — Перовская, Желябов, Гельфман, прощенные Государем, с новой силой и энергией стали бы охотиться за простившим их Государем.
Сколько раз Андрей при Вере говорил: «Сначала отца, а потом и сына придется». Акт царского милосердия их не смутит. Для них не только нет Царя, они в Царе не видят и человека. Есть «объект», мешающий им, который они решили устранить.
Когда после Воронежского съезда Вера возвращалась с Перовской, она была умилена. Ей тогда казалось, что она поднялась над пошлостью жизни, взобралась на некую высоту, откуда по-иному увидела мир и людей. Смелым показалось отрицание Бога, отрицание Царя, свобода от обывательских пут. Сама становилась, как Бог.
Не на высоту взобралась она в те дни, а спустилась в мрачную и смрадную, полную крови и мертвечины яму, где не видно света Божьего. Смрад подкопов, могильная тяжесть земли над человеком, ехидно ведущим подкоп, чтобы уничтожить своего ближнего, своего Государя, — это не высоты, а жуткие, дьявольские низы!
Теперь задумалась.
Эти дни Вера не выходила из дома. Она стала ласкова к Афиногену Ильичу.
Шел Великий пост. Старого генерала мучила подагра. Он не мог ходить в церковь, и Вера предложила ему читать по вечерам Евангелие. В кабинете был полумрак. Афиноген Ильич устраивался в кресле с вытянутой ногой. Флик и Флок ложились подле него на ковре.
Низались, низались и низались слово за словом святые слова и приобретали для Веры новое значение. Возвращали ее к Богу.
— «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить…»
— «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч…»
— «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда».
— «Пилат говорит Ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе…»
XXIX
28-го марта приват-доцент философии при Петербургском университете и профессор философии на Высших Женских Бестужевских Курсах, кумир курсисток, Владимир Сергеевич Соловьев в большом зале Кредитного Общества, на площади Александринского театра, читал лекцию «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».
Большой зал был переполнен. На лекцию приехал министр народного просвещения Сабуров. Много было лиц из общества, литераторов, журналистов, офицеров, но преобладала молодежь — студенты и курсистки. Все задние ряды, проходы с боков зала за колоннами, сама эстрада сзади лектора были полны ею. Гул молодых голосов стоял в высоком светлом зале. Юные глаза блестели, все ожидали, что Соловьев «что-то скажет».
Третий день шел процесс народовольцев. Их дело ввиду особой важности было передано на разрешение Особого Присутствия Правительствующего Сената с участием сословных представителей. Первоприсутствующим был сенатор Фукс, членами суда — сенаторы Биппен, Писарев, Орлов, Синицын и Белостоцкий. Обвинял П.В. Муравьев.
В Петербурге со дня на день ожидался приговор, и никто не сомневался, что приговор этот будет: смертная казнь… Так полагалось но закону.
Молодежь волновалась. Она не допускала мысли о возможности смертной казни шестерых преступников. Знали о письме Толстого, оно ходило по рукам в списках, и теперь ожидали, что скажет философ Владимир Соловьев. Он был светочем христианства и многим казался пророком. Все привлекало к нему сердца молодежи: аскетический образ жизни, духовность напряженного мышления и, может быть, больше всего, сильнее всего — его особая наружность.