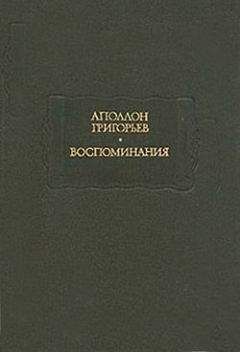Марина Кравцова - Княжна Тараканова: Жизнь за императрицу
– Что это на тебе?
Николенька не сразу оторвался от письма.
– Что такое, папенька?
– Ты почему не в мундире?
– Так ведь отпуск, папа, и вообще…
– Ты что, не знаешь императорского указа? – вспыхнул старший Ошеров. – Ишь, вольнодумец какой выискался!
– Я не вольнодумец, батюшка! – Николенька даже покраснел. – Как вы не понимаете… Ну, не лежит у меня душа к военной службе. Что же делать-то?
– Как не лежит? – Сергей Александрович был изумлен.
– Ох… Что же поделать? Нет, я ничего. Я буду служить, конечно… Простите, отец. Извольте, одену мундир.
Он тихо вздохнул. Сергей Александрович только пожал плечами.
На следующий день за обедом сын вдруг поморщился, словно от боли, и его большие карие глаза затуманились.
– Что-то нехорошо, папа… – пробормотал он, откладывая вилку.
– Да ты с утра что-то невеселый и вялый, – встревожился Сергей Александрович.
– Да это ничего. Сейчас пройдет.
Но не прошло. Напротив. С каждым часом юноше становилось все хуже. К вечеру он уже весь пылал, не в силах был поднять руку, и вдруг начал бредить.
Сергей Александрович сходил с ума! Сын его рос здоровым мальчишкой, и в юности ничем особо не болел, и теперь отец просто не понимал, что же такое приключилось с его Николенькой. Не понимали и лекаря. Немец и француз поочередно разводили руками, выражая полное бессилие. Ошерову показалось, что он в состоянии убить обоих! Но он только рукой махнул и поспешил к сыну, опустился на колени возле его кровати.
– Мальчик мой, соколик, ты меня слышишь?
Его ладонь тревожно легла на жаркий лоб Николеньки. Молчание, потом тихие стоны в беспамятстве. К ночи стало совсем плохо…
На третий день Ошеров, пошатываясь, вышел из комнаты сына, который так и не приходил в сознание. Слипались красные от бессонных ночей глаза, в висках гудело. Сергей Александрович уже не думал ни о чем, ничего не понимал. «Конец?» – спросил он сам себя, и долго не мог осознать значения этого слова. А потом содрогнулся… Если Николенька… Не дай Бог! Тогда это конец и ему, Ошерову, тогда пуля в лоб или…
Он не замечая сам, куда идет, прошел на половину дворовых. Из-за приоткрытой дверцы слышался бабий гомон. Ошеров не прислушивался, пока не прозвучало имя – словно ударило.
– А, слышь, мать Досифея в Ивановском монастыре…
В девяносто первом году Сергей Александрович был в Петербурге, виделся последний раз с Потемкиным. Светлейший давно уже знал об Августе, и Ошерову удалось доподлинно выпытать у него, где и с каким именем она пострижена в монахини. Да и слухи по Москве давно распространялись, из-за которых Сергей Александрович не мог спокойно проезжать мимо Ивановского монастыря.
– …великая молитвенница! У Сашки муж был при смерти, так она до матери Досифеи дошла…
– Нешто пустили?
– Пробилась! Так матушка при ней прямо помолилась…
«Досифея? Августа?! – надежда, последняя, необъяснимая, прорвала черноту отчаяния, и Ошерова охватила лихорадочная дрожь нетерпения. – Да, если возможно для меня чудо на земле, то только через нее!»
Вскоре Сергей Александрович мчался верхом к Ивановскому монастырю…Пропустили без колебаний. Ошеров удивился – неприступность таинственной затворницы вызывала в первопрестольной столько пересудов…
Игуменья, доживающая свой век, умудренная Господом, на пергаментное лицо которой время отложило сильный отпечаток, казалось вовсе не удивилась визиту взволнованного донельзя господина, желающего во что бы то ни стало видеть «странную» монахиню. С воцарением Павла Петровича надзор за Досифеей был ослаблен, ей было позволено принимать гостей, и если она крайне редко пользовалась этим дозволением, то потому лишь, что сама желала затвора.
Впрочем, иногда она принимала. Однажды в Ивановскую обитель пришел юный монах, опустился на колени возле порога и принялся отбивать поклоны на восток. Мать Досифея заметила сквозь щель занавесок, послала Стефаниду спросить, что бы это значило.
На вопрос келейницы монах ответил, что пришел за духовным советом к подвижнице, которая обитает в затворе в этих стенах. Люди рассказывают, что живет она скромно, благочестиво, проводя время в молитвах и духовном чтении, что она премудра и праведна.
– Откуда людям ведомо? – удивилась Стефанида.
– Не знаю, сестра, слухом земля полнится. Да ты же сама рукоделье ее продаешь, все знают, а выручку раздаешь нищим.
– Все так, брат.
– Вот и молю я Господа, дабы матушку увидеть…
Стефанида вернулась к Досифее, доложила, та удивилась и решила принять юного монаха.
Войдя, инок поклонился, чинно, тихо. Поднял глаза и тут же опустил. Необыкновенное лицо без возраста поразило его, прямой взгляд строгих светящихся глаз инокини проник в душу, и юному монаху показалось, что матушка видит его насквозь, видит, какая черная, смрадная у него душа…
Досифея мягко приветствовала юношу и от материнской ласковости ее голоса сама собой прошла его робость, хорошо стало, легко. Досифея поинтересовалась именем гостя.
– Брат Иоанн, на Иоанна Лествичника постриг принял, а миру тоже Иоанном звался, в честь Крестителя Господня.
– Так зачем тебе, брат Иоанн, старая монахиня понадобилась?
– Матушка Досифея… С младых лет был мне зов на иночество. С этим и рос, одним лишь и жил, ничего иного и не желал. Сбылось, наконец, постригли меня в Донской обители. Да с недавних пор ни с того ни с сего тоска нашла на сердце, грызет, мучит, окаянная, и такие мысли порой являются, что, Господи, помилуй!
Он перекрестился, и прошептал, доверительно потянувшись к самому уху Досифеи:
– В петлю бес толкает, вот что!
– На исповеди открывал?
– Открывал, не проходит.
– Почему ко мне пришел?
– Матушка, – юный инок с мольбой взглянул на нее тихими глазами. – Мыслить дерзаю, что и вы претерпели и привыкали тяжко, опыт борения имеете, потому как…
– Что же замолчал?
Вновь брат Иоанн потупил взор.
– Уж и сказать не смею, – после молчания глухо вымолвил он. – Ходят слухи, что не простая вы монахиня…
– О слухах ни к чему поминать, брат. О твоих делах, что ж, потолкуем, помолившись. – Досифея тихо улыбнулась. – А сначала, брат Иоанн, чаем тебя напоим, не откажешься?
– Ежели благословите, матушка.
– Как не благословить.
После двух часов беседы за чаем брат Иоанн ушел от инокини совершенно успокоенный, а потом наведывался еще не раз. Мать Досифея стала его духовной наставницей. Вскоре молодого монаха перевели в монастырь в другой город, и видеться они перестали, но и через много лет отец Иоанн, игумен, духовный наставник своей обители, горячо поминал в молитвах подвижницу, которая так помогла ему в тяжкую минуту…
Узнав, что таинственная затворница принимает, народ принялся толпиться у ее окон. Множество было и празднолюбопытствующих. Досифея же допускала к себе в келью лишь некоторых, и никто не мог бы сказать, на чем она основывает свой выбор. Потом уже становилось явным, что люди, которых она принимала, действительно нуждались в духовной помощи. Так она наставила на иноческий путь братьев Путилиных, будущих игумена саровского и оптинского инока, и они впоследствии вспоминали о ней, как о духовномудрой старице. Принимала инокиня Досифея и крестьян. Но иногда ее уединение нарушали иные особы…
К визитам самого владыки Платона уже привыкли. Навещала Досифею знать, сановитые вельможи, бывала двоюродная сестра Прасковья, дочь гетмана Кириллы Григорьевича Разумовского. А однажды появился юный офицер, белокурый, с очень красивым ангелоподобным лицом. Скромный серый мундир никак не вязался с его манерами. Этот непонятный красавиц чем-то до того поразил келейницу Стефаниду, что она даже решилась на осознанный грех. Проходя мимо кельи Досифеи в то время, когда та разговаривала с посетителем, Стефанида на миг прильнула к двери.
– …моей бабки Екатерины Великой, – донеслись до нее слова.
И ровный, спокойный голос матери Досифеи:
– Конечно же, Ваше Высочество. Господь благословит Вас. Только, Александр Павлович, остерегайтесь…
Стефанида как ошпаренная отскочила от двери, зажала в ужасе рот, бросилась в свою комнатушку. «Наследник! – стучало в ее голове. – Сам старший царевич! А матушка-то как с ним… Александр Павлович… О, Господи!»
Кроме нее об этом визите знала лишь игуменья…* * *…Сергей Александрович молча стоял перед инокиней Досифеей. Он не смог бы внятно объяснить, что чувствует сейчас. Августа… Неужели его Августа? Его поразило, что она как будто перестала стариться и в то же время так сильно изменилась. Лицо высохло, удлинилось, потеряло румянец, но сейчас это лицо, которое теперь можно было назвать ликом, поражало сильнее, чем когда-то, в пору расцвета женской красоты. На Ошерова смотрели ставшие огромными светлые, глубокие, внутрь себя обращенные очи. Но в себя смотрящие, они умели с одного взгляда выхватывать самую суть стоящего рядом. Ошеров оробел. Оробел так, что и слова не мог вымолвить. А у инокини Досифеи чуть дрогнули в улыбке губы.