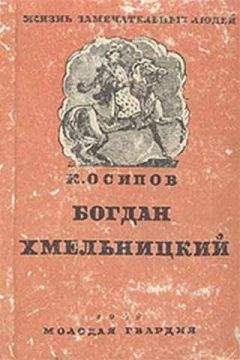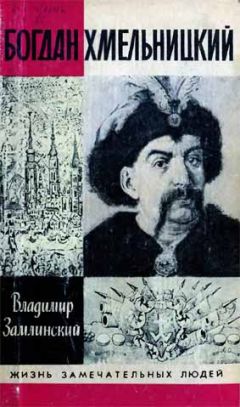Генрик Сенкевич - Потоп. Том 2
И долго еще разглагольствовал пан Заглоба, так как был весьма собой доволен, а в этих случаях он становился еще более разговорчив, чем обычно, так и сыпал мудрыми сентенциями.
ГЛАВА VI
Чарнецкий и в самом деле даже надеяться не смел, чтобы коронный маршал пошел под его команду. Он желал лишь действовать заодно, но опасался, что и этого навряд ли добьется по причине непомерного тщеславия Любомирского. Надменный магнат уже не раз говорил своим офицерам, что предпочитает бить шведов собственными силами и, без сомнения, побьет их, а одержи он победу вместе с Чарнецким, вся слава Чарнецкому и достанется.
Опасения Любомирского имели под собой почву. Чарнецкий понимал это и был в сильном беспокойстве. Отправив из Пшеворска письмо, он теперь в десятый раз перечитывал копию, желая удостовериться, нет ли там чего-нибудь такого, что могло бы задеть обидчивого вельможу.
И сразу подосадовал на себя за некоторые выражения, а потом вообще стал жалеть, что написал это письмо. Мрачный, сидел он у себя на квартире и поминутно подходил к окну поглядеть, не возвращаются ли послы. Офицеры, видя в окне его озабоченное лицо, догадывались, что с ним происходит.
— Быть грозе, — сказал Поляновский Володыёвскому, — у каштеляна лицо пятнами пошло, а это дурной знак.
Дело в том, что лицо Чарнецкого было все изрыто оспой и в минуты большого волнения или тревоги покрывалось беловатыми и темными крапинами. Черты его были и без того резкие, брови грозно нахмурены на высоком лбу, нос крючком и пронзительный взор, когда же вдобавок лицо это покрывалось пятнами, Чарнецкий становился поистине страшен. В свое время казаки прозвали его рябой собакой, однако справедливее было бы сравнить его с рябым орлом; когда он в своей бурке с развевающимися, словно огромные крылья, полами вел солдат в атаку, сходство это бросалось в глаза и своим и врагам.
Он порождал страх как в тех, так и в других. Во времена казацких войн главари даже самых крупных ватаг теряли голову при встрече с Чарнецким. Сам Хмельницкий боялся его, а особенно советов, которые тот давал королю и которые действительно способствовали ужасному разгрому казаков под Берестечком. Но особенно возросла слава Чарнецкого позже, когда он, войдя в соглашение с татарами, бушевал, подобно пожару в степях, истреблял без жалости все очаги мятежа, штурмовал города, крепости, вихрем носясь из конца в конец по всей Украине.
И с тем же яростным упорством изводил он теперь шведов. «Чарнецкий не перебьет, а выкрадет у меня войско», — говорил Карл Густав. По Чарнецкому как раз надоело выкрадывать, — он полагал, что настало время бить. Однако ему не хватало пушек и пехоты, без которых невозможна была настоящая война, потому-то он и стремился так объединиться с Любомирским, у которого, правда, пушек тоже было немного, но зато была пехота, в которой служили горцы. Не слишком привычные к строю, они, однако; не раз уже побывали в бою, и, за неимением лучшего, их можно было выставить против великолепной пехоты Карла Густава.
Чарнецкий горел словно в лихорадке. Наконец, не в силах усидеть в комнате, он вышел на крыльцо и, заметив Володыёвского с Поляновским, спросил:
— Что, не видать послов?
— Знать, пришлись по сердцу хозяевам, — ответил Володыёвский.
— Они-то по сердцу, да я не по сердцу. Иначе маршал своих бы с ответом прислал.
— Пан каштелян, — сказал Поляновский, который был у вождя в большом фаворе, — стоит ли беспокоиться! Придет к нам пан маршал — хорошо! Не придет — будем по-старому воевать. Шведская кровь и так уже льется, а ведь известно, коль горшок прохудился, из него все и вытечет.
На это Чарнецкий ответил:
— Польская кровь тоже льется. Если они сейчас ускользнут, им удастся собраться с силами, подойдут к ним подкрепления из Пруссии — случай будет упущен.
И Чарнецкий гневно ударил кулаком по поле своей бурки. Но тут послышался конский топот и бас Заглобы, распевавшего песню:
Воет непогодушка,
Ветер злой,
Не страшно ли, девушка,
Вечером одной?
Впусти меня, Касенька,
Двери отвори,
Погреемся, Касенька,
До зари.
— Добрый знак! Веселые возвращаются! — вскричал Поляновский.
Тем временем послы, завидев каштеляна, соскочили с коней и, передав их вестовому, поспешили к крыльцу. На ходу Заглоба подкинул вверх шапку и, мастерски подражая голосу Любомирского, крикнул:
— Виват, пан Чарнецкий, наш вождь!
Каштелян поморщился и нетерпеливо спросил:
— Письмо привезли?
— Не письмо, — ответил Заглоба, — а кое-что получше. Пан маршал со всем войском добровольно идет под начало твоей милости.
Чарнецкий пронзительно посмотрел на него, затем повернулся к Скшетускому, словно желая сказать: «Говори ты, этот, видно, пьян!»
Заглоба и вправду был навеселе; но когда Скшетуский подтвердил его слова, на лице каштеляна отразилось изумление.
— Ступайте за мной, — приказал он. — Пан Поляновский, пан Володыёвский, прошу и вас.
Все вошли в комнату. Не успели сесть, как Чарнецкий спросил:
— Что он сказал на мое письмо?
— Ничего не сказал, — ответил Заглоба, — а почему — узнаете в конце моей реляции, теперь же insipi am…[96]
И он начал рассказывать, как все происходило, как он, Заглоба, склонил маршала к столь благоприятному решению. Чарнецкий смотрел на него с возрастающим изумлением; Поляновский хватался за голову, а пан Михал шевелил усиками.
— Не знал я тебя до сих пор, пан Заглоба, ей-богу, не знал! — воскликнул каштелян. — Просто ушам своим не верю!
— Меня давно прозвали Улиссом! — скромно ответствовал Заглоба.
— Где мое письмо?
— Вот, пожалуйста!
— Придется уж простить тебя, что не отдал. Вот это ловкач так ловкач! Канцлеру впору у него поучиться, как переговоры вести! Ей-богу, будь я королем, послал бы я тебя в Царьград…
— Сразу бы сотня тысяч турок явилась нам на помощь, — воскликнул пан Михал.
И Заглоба на это:
— Не сотня, а две, не сойти мне с этого места!
— Неужто маршал ничего не заметил? — допытывался Чарнецкий.
— Он-то? Глотал все, что я ему в рот клал, словно рождественский гусь галушки, только кадыком двигал да глаза заводил. Я уж думал, сейчас лопнет от радости, что твоя шведская граната. Этого человека лестью в ад заманить можно!
— Главное, шведу, шведу покрепче насолить! Даст бог, так оно и будет! — ответил обрадованный Чарнецкий. — А ты, хоть и обвел пана маршала вокруг пальца, слишком-то над ним не насмехайся — другой на его месте и того бы не сделал. От него ведь многое зависит… Нам до самого Сандомира идти через владения Любомирских, и маршал одним своим словом может поднять всю округу, может приказать мужикам портить переправы, жечь мосты, укрывать продовольствие в лесу… Спасибо тебе за услугу, век помнить буду, но спасибо и пану маршалу, — он, думается мне, не из одной суетности так поступил. — Тут каштелян хлопнул в ладоши и крикнул оруженосцу: — Коня мне! Будем ковать железо, пока горячо. — Затем он обратился к полковникам: — А вы все следуйте за мной, чтоб свита была как можно пышнее.
— Мне тоже ехать? — спросил Заглоба.
— Ты возвел мост между мною и маршалом — ты первый и должен по нему проехать. Кстати, сдается мне, тебя там жалуют… Едем, едем, любезный друг, иначе я подумаю, что ты хочешь бросить начатое на полдороге.
— Делать нечего! Придется только пояс затянуть потуже, а то брюхо растрясет… Ослабел я что-то, вот разве если чем подкрепиться?
— Чем же, например?
— Много я слышал о вашем меде, а отведать до сих пор не привелось, охота бы попробовать, чей лучше: каштелянский или маршальский?
— Что же, выпьем, по обычаю, посошок на дорогу, а вернемся, тогда уж попируем вволю… Да у себя на квартире тоже найдешь жбан-другой…
Каштелян приказал подать кубки, и они выпили в меру, для бодрости и хорошего расположения духа, после чего сели на коней и отправились в путь-дорогу.
Маршал принял Чарнецкого с распростертыми объятиями, угощал, поил, не отпускал от себя всю ночь, а наутро оба войска соединились и двинулись дальше под командованием Чарнецкого. Около Сенявы они снова напали на шведов, да так удачно, что полностью истребили их арьергард и вызвали замешательство во всей армии. Лишь на рассвете шведам удалось отогнать их огнем из пушек. Под Лежайском Чарнецкий прижал противника еще крепче. Дороги развезло от дождей и стаявшего снега, и несколько крупных шведских отрядов увязли в болоте. Все они попали полякам в руки. Положение шведов становилось все более отчаянным. Истощенные, полуживые от голода и бессонницы солдаты едва волочили ноги. Все больше их оставалось на дороге… Когда к ним подъезжали польские конники, многие уже не хотели ни есть, ни пить и лишь просили смерти. Иные просто ложились на кочки и умирали, другие, уже ничего не сознавая, смотрели на приближающихся поляков с полным безразличием. Иноземцы, которых немало служило в рядах шведской армии, начали убегать и переходить к Чарнецкому. И только непреклонная воля Карла Густава еще поддерживала гаснущие силы его армии.