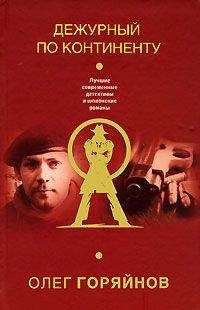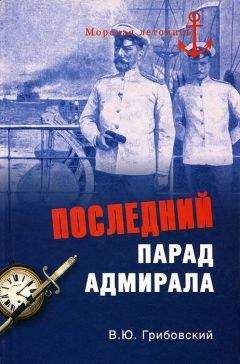Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
— Извините, она рассуждает как маленький мудрец, и каждое ее слово — золото. Смотри же, прелесть моя, сдержи свое слово, — прибавила Олсуфьева, целуя Грипочку.
— Каких она слов успела уже надавать? — слегка встревожилась Татьяна Михайловна.
— Это пока наше дело, дорогая Татьяна Михайловна. Мы не болтливы. Вы узнаете все в свое время.
Пока дамы усаживались в карету, Грипочка махала им в окно платочком.
Новые знакомые сидели в карете молча дольше, чем это допускает приличие. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждая мысленно не только видела малейшую черточку на лице другой, но и угадывала все мысли и ощущения соперницы.
Татьяна Михайловна была, по обыкновению, несколько бледна и сосредоточена. Елена Павловна — по-обычному спокойна и непроницаема.
Первая нарушила молчание Олсуфьева. Она повернула свое восковое, как бы светящееся, лицо к Троепольской и сказала самым обычным тоном с оттенком подкупающей сердечности и некоторой иронии, обращенной на самое себя:
— Вот мы и вместе, дорогая Татьяна Михайловна. Полагаю, нам излишне играть в прятки?
Татьяна Михайловна в свою очередь повернулась к Ольсуфьевой и с грустной улыбкой покачала головой:
— Такая игра совсем не в моем характере, милая Елена Павловна.
Две женщины долго и пристально смотрели в глаза одна другой.
Олсуфьева думала: «Какой у нее страдающий взгляд! Этой женщине не легко живется». Троепольская заинтересовалась вспыхивающими бликами в глазах Елены Павловны и подумала: «Какое у нее спокойное лицо и какие говорящие глаза! В них почти можно читать».
Обе одновременно улыбались, одна весело и почти задорно, другая грустно и как бы виновато.
Олсуфьева порывисто схватила руки Троепольской:
— Славная моя Татьяна Михайловна! Ведь мы, кажется, занялись совсем не нужным делом.
— Отчего же? — ответила Троепольская. — Мне приятно и интересно смотреть в ваши чудные глаза.
— И мне в ваши также… Но… как бы это сказать… мы не должны слишком пристально рассматривать одна другую, а просто верить друг другу на слово. Я исповедаюсь перед вами со всей искренностью. Прежде всего, известный нам человек не давал мне никаких поручений относительно вас. Просто, я вас похитила.
— Я так и поняла.
— Он только сказал мне, что вы не прочь познакомиться со мною.
— Да, это правда.
— Значит, у меня было достаточное обоснование прибегнуть к хитрости. Пойдем дальше. Дорогая Татьяна Михайловна, я буду совсем откровенна. Мы с вами то, что на театре называется «соперницы». Только пусть вас это не пугает. Я готова отстраниться без тени недоброжелательства. Просто уйти с дороги, коль скоро это будет соответствовать вашим интересам и намерениям.
— Но у меня нет никаких намерений. И никаких прав. Я — замужняя женщина.
— Последнее менее всего может служить препятствием. Будем исходить только из сердечных побуждений… Итак, я сошлась с известным вам человеком. Сошлась, подчиняясь властно охватившему меня чувству. До этого времени никаких подобных чувств я ни к кому не испытывала. Даже посмеивалась над ними, как над глупостью или пошлостью. Не скрою, я знала со слов этого человека, что он носит в душе образ другой женщины. Может быть, я поступила и не совсем хорошо, но виновной себя не почитаю. С одной стороны, сильное чувство извиняет многое, а с другой, мне казалось, что человек этот влюблен не жизненно, эфемерно, в какую-то надуманную мечту или грезу; словом — в ничто. Извините, но это не обмолвка. Именно в ничто. Та женщина была потеряна им из виду уже несколько лет. Не подавала о себе никаких признаков жизни. И, если не обманываюсь, никогда не принадлежала ему, как женщина.
Татьяна Михайловна вздохнула:
— Да, в этом вы не обманываетесь. И вообще, вам не в чем винить себя.
— Я никого не виню, а выясняю положение. Я замечала в том человеке признаки некоторой душевной угнетенности. В связи с более определенным чувством во мне заговорила также и обычная женская жалость. Некоторое время все шло так, как должно было идти между людьми честными, порядочными и — извините это избитое слово — влюбленными. Я беру на себя смелость сознаться — я была счастлива. Повидимому, другая сторона также. Но вот мой избранник сталкивается случайно с женщиной, образ которой он носил в душе, как нечто отлетевшее безвозвратно.
— Да оно же так и есть, — безвозвратно.
— Не верьте этому, как не верю я. Небольшое усилие и призрачная мечта воплотится. То, что «мечта» успела уже стать принадлежностью другого — ничего не говорит. Это пустячное препятствие, когда властно заговорит сердце. Моя задача — облегчить ему свободу выбора, а вам — указать на то, что всякие препятствия с вашего пути устраняются. Достаточно вам двоим, даже одному из вас, заявить мне открыто: вы — лишняя, и я никогда ничем не напомню вам о своем существовании. Все в ваших руках, дорогая Татьяна Михайловна.
Елена Павловна замолчала. Она казалась по-обычному спокойной, только усиленный блеск глаз выдавал взволнованность. Троепольская сидела бледнее обыкновенного. Между бровей и вокруг рта залегли страдальческие складки, и она казалась постаревшей. Она заметно волновалась и не пыталась скрыть свое волнение. Встретилась глазами со смелым, немного вызывающим взглядом Олсуфьевой. Неожиданно бледность сменилась ярким румянцем. Она дружески положила свою руку на руку Олсуфьевой. Заговорила тихо, слегка вздрагивающим голосом:
— Милая Елена Павловна, я несколько волнуюсь, и вы должны извинить мне это. Я довольно смелая актриса на сцене, но совсем никакая актриса в жизни. Поэтому вы можете поверить каждому моему слову. Я неплохо разбираюсь в чувствах изображаемых мною на сцене героинь, но совершенно лишена способности разбираться в своих собственных ощущениях. Очевидно, одно идет за счет другого. Однако мне ясно, что вы и я испытываем совершенно различные чувства. Я бесконечно благодарна вам за вашу искренность. Но ваша готовность идти на какие-то жертвы… поверьте, она излишняя. Все ясно и просто. Я — замужняя женщина, люблю по-своему мужа и от природы не способна на какие бы то ни было побочные связи. Федор Григорьевич для нас с мужем — друг. Для вас он — муж. В вашем лице мне хотелось бы иметь такого же бескорыстного и искреннего друга, каковым является для нас Федор Григорьевич. Что может угрожать вам и с какой стороны? Сделаю то, чего я не делала ни перед кем и ни разу в жизни, — обнажу свою душу, насколько хватит уменья. Мне было шестнадцать лет, когда я встретила Федора Григорьевича. Его честность, прямота, талантливость, его выгодное несходство с другими людьми, которых, к слову сказать, я видела очень мало, — привели мою пробуждающуюся душу в восторженное состояние. Да, это был восторг, безотчетный, беспричинный, — иначе я не могу определить это чувство. Только из детского желания быть похожей на него я со всем пылом отдалась тому делу, о служении которому мечтал и он. Замешана ли была в этом чувстве любовь в обычном смысле? На это я вам, право, не в состоянии ответить. Это было, пожалуй, нечто большее, чем такая любовь. Я начала пробуждаться, складываться, как человек, под его невольным влиянием. Вернее, под влиянием моего чувства к нему. Поверьте мне, я даже не подозревала тогда, из чего складывается любовь мужчины и женщины. В шестнадцать лет такое поведение простительно. Мне просто необходимо было находиться подле этого человека и ничего более. Всякая черточка моего характера, любая жизненная мелочь, — все складывалось и сообразовалось с мыслью о нем. Я могла дышать только тем воздухом, которым дышит он, жить только теми интересами, которыми живет он; старалась чувствовать только так, как чувствует он. Любовь ли это? Это было какое-то добровольное сладостное рабство. Без планов. Без жажды награды. Без мечты об иных отношениях. Вот и все. Разлука была вынужденна, груба и жестока. Представляю вам почувствовать женским сердцем, что пережила и испытала девочка после этой разлуки. Рассказать связно я и не умею, и не в силах.
Татьяна Михайловна замолчала, осеклась вдруг, как бы не в силах продолжать свой рассказ. Провела платком по вновь побледневшему лицу. Олсуфьева сидела неподвижно, не шевелясь. Через минуту Троепольская продолжала:
— Дальше жизнь моя сложилась так, что не у каждого достало бы силы ее вынести. Я вынесла. Ближайшие годы, несмотря на их страшные уроки, не разбили моего чувства. Наоборот, как будто даже укрепили его. Что же это было за чувство? Я не умею объяснить. Что-то совершенно оторванное от жизни, просто заполняющее душевную пустоту, без надежды на что-либо, без желания слиться с обожаемым человеком. Когда я и сестра были на краю гибели и Троепольский сделал мне предложение, спасая нас, — я посмотрела на это предложение как-то со стороны. Брак с Троепольским и мое чувство к Федору Григорьевичу казались мне различными вещами, не противоречащими одна другой. И поныне мне это кажется так. Не находя другого слова, я называю мое чувство дружбой. По какой-то случайности, как я впоследствии убедилась, такое понимание наших отношений передалось и Федору Григорьевичу. Вы знаете Федора Григорьевича и, конечно, поверите мне, что он никогда не искал во мне ничего иного, кроме дружественных откликов родного сердца. Это все, что я могу сказать по чистой совести. Что это — любовь, дружба, болезнь или еще что? — этого я определить не берусь. Во что это может вылиться в дальнейшем — не знаю. Сколь опасно для кого-либо из нас четверых — решить не могу. В ваше серьезное чувство к нему и в его к вам — верю. Вижу в вас особу душевную, искреннюю, сострадательную. Вашему союзу с Федором Григорьевичем, — в форме ли брака или какой иной, — нелицемерно рада. Дать ему то, что можете дать вы, я не в состоянии. Буду просить вас только об одном: оставьте нам частицу нашей дружбы. Не гасите тех крохотных огоньков, которые еще мелькают на моем пути. Для женщины, связанной браком, может быть, рассуждать подобным образом и не позволительно, но я обязана высказать все, что чувствую, без утайки. А там — судите меня.