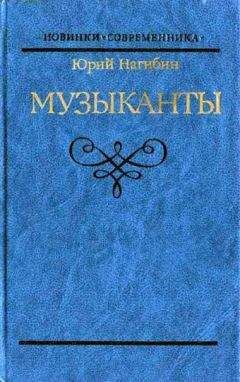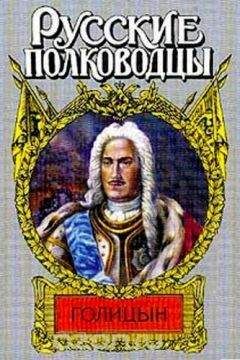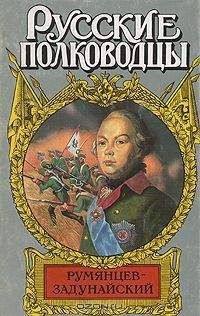Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
Янка склонилась над столом и принялась вытирать его и без того начисто выскобленную поверхность.
– Ты бы меня накормила да в дорогу съестного дала. Я в поварне завтракать буду, – попросил Василько, не испытывавший голода, но желавший побыть перед отъездом подле Янки.
Янка подошла к печке. Он же сел за стол так, чтобы лучше видеть ее. Раба поставила на стол кувшин и горшок, положила ложку, предварительно обтерев ее о подол своей сорочки.
– Не подосадуй, что брашна холодна. Печь не топлена, – объяснила она. Васильку было по сердцу, что в ее голосе не проскользнули нотки обиды, раздражения, заискивающей и разделявшей бы их сейчас угодливости.
Пока он ел, исподволь наблюдая за Янкой, она собирала ему в дорогу съестное: положила в суму ковригу и горстку соли в тряпице, оглядела полки, открыла ларь и заглянула в него, затем озабоченно нахмурилась, опустила крышку ларя и, припадая на ногу, направилась к двери.
– Ты куда? – изумленно спросил Василько, увидев, что Янка надевает кожух.
– В погреб… хочу окорок принести, – пояснила она.
– Не надо, – отказался Василько. – Путь не дальний…
Янка нерешительно потопталась у двери, вздохнула и только потом сняла кожух. Василько вышел из-за стола; ему хотелось на прощание утешить рабу и еще раз повиниться перед ней, но он удержался, опасаясь, что она наговорит колких слов либо подожмет губы, отвернется и заплачет.
Кручинясь на себя за то, что вел себя сегодня скованно и неловко и не сказал того, что загодя надумал сказать, Василько в сердцах выкрикнул: «Жди!», схватил суму и выбежал из поварни.
Василько выехал еще в сумерках, и потому вначале его внимание было занято дорогой. Он с трудом различал меж вздыбившихся снегов санную колею.
Но на востоке, над мрачным, притаившимся лесом, уже загорелась заря. Она с ребячьим любопытством лизала бледно-розовыми языками невозмутимую ночную синь. Ей бы насторожиться, ополчиться, но синь, знай себе, застыла в непоколебимой уверенности своего вечного могущества и сгинула, охнуть не успела, как погасли звезды, затерялся месяц, окрасился окоем. А когда санный путь побежал по извилистому ледяному руслу реки, совсем рассвело, выкатилось капризное солнце и давай слепить, жечь снега холодно равнодушным, как ласки мачехи, ярким светом.
Василько целиком положился на Буя и отдался размышлениям. Вспоминал, как перед отъездом потчевала его Янка, как смотрела на него, что-то делала, двигалась, говорила, и опять огорчился, оттого что не увидит рабу сегодня и даже забыл спросить ее о здравии.
Тут же его поразило запоздалое и неприятное открытие: «Как же я подзабыл, что Пургас, пес смердячий, приедет в полдень и будет один на один с рабой!» Он представил, как возрадуется холоп, узнав о его отъезде: наверняка глупо засмеется, хлопнет себя по бедрам и побежит в поварню.
Припомнил тягостное для него признание Янки о том, что ее сердце занято другим, и добрые мысли совсем покинули его. И солнце уже мешало: проку от него почти нет, только слепит очи; и мороз не бодрил, но стягивал кожу на лице и студил ноги; и Буй плелся еле-еле, будто не ратный конь, а мерин ратайный.
Его, славного и удалого, коего весь Владимир славил, отвергли. И кто отверг, и ради кого отвергли? – да ради какого-нибудь вонючего смерда. Неужто он так низко пал с высокой, создаваемой с безжалостным усердием веками житейской лестницы? Неужто не подняться ему вновь?
Но взыграли самолюбие и упрямство. Василько вскинул голову, приосанился и чуть ли не во всю глотку закричал, поколебав застывший пропитанный солнцем и хладом воздух:
– Рано предаете меня забвению! Подождите, разнесется обо мне слава по земле Русской! А ты, Янка, еще будешь ползать у моих ног!
Он спохватился: стало не по себе от мысли, что его высокомерные речи могли услышать. Осмотрелся, кругом ни души. Только Буй да обступившие реку лес, да спящая под ледовой шубой река, да взлетевшая с ближайшей ели и каркнувшая в небеса ворона, да равнодушные снега. «Что это я на весь белый свет такой ор учинил? Нечто к лицу он удалому витязю? Хорошо, что от жилья далече и никто не слыхал меня, а то был бы мне срам велик… Надобно не потрясать воздух криканием, а поисправиться, духом взбодриться. С Янкой же впредь лукавить нужно: где лаской обойтись, где слегка попенять, а где и постегать маленько, чтобы видела во мне господина души своей и чтобы пожалела. Они, бабы, горазды жалеть», – рассудил Василько.
По мере того как Василько отдалялся от села, уже другие мысли овладели им. Янка, Пургас и чувства, связанные с рабой, – все это отхлынуло перед волнующим ожиданием встречи с Москвой.
Он приближался к городу, в котором впервые увидел белый свет. С Москвой у него были связаны первые проблески памяти, первые запахи, радости и печали. Из Москвы его погнали на рать жестокосердные бояре. Он чудом не отведал каленой стрелы и острого меча, познал бедовый мир, окреп, дослужился до свободы и жил себе не тужил без родного города, как и город обходился без него.
Но если Москве не было никакого дела до удальца, то Василька все чаще била кистенем тоска: внезапно нахлынет, вызывая душевную смуту, и нестерпимо захочется бросить все и прогуляться по знакомым улочкам, взойти на заборала, насладиться земными красотами, затем вдохнуть тепло родной избы, пройтись по полузабытому подворью.
К удивлению Василька, первая после длительной размолвки встреча с Москвой оказалась обыденной. Город принял его равнодушно; он как бы жил своей жизнью и не встрепенулся, по-отечески не возрадовался, когда узнал былого воспитанника. А может, не узнал вовсе либо сам воспитанник оказался суетливым, все торопился, не желая растравлять черствую душу.
Москва же обросла подворьями, расползлась вдоль реки и от реки. Кремник почернел и стал казаться ниже, лес подле посада поредел, попятился, и церквей заметно прибавилось, и монастыри обложили предградие, как ловцы медвежью берлогу.
Особенно прискорбной оказалась для Василька последняя встреча с Москвой. Лил нудный моросящий дождь. Было так сыро, грязно и мрачно, так горько на душе, оттого что почти в одночасье потерял и мать, и службишку, так не хотелось видеться с сестрой и выслушивать ее упреки за почившую в одиночестве мать, отвечать на огорчавшие расспросы знакомых и внимать их подчас равнодушным, сожалеющим речам, что он проехал через город, не остановившись.
А мать будто присутствовала на улочках Москвы. В каждой встречной пожилой женщине ему чудилась она, каждое знакомое подворье, церквушка напоминали о том, что она была, но отныне ее нет и никогда не будет. Оттого он не только еще острее ощущал потерю любящего и печалующего человека, но с душевной ноющей болью понимал, что оборвалась так мало ценимая связь с родиной, что теперь все будет в Москве не так, как ранее и как ему хотелось; останется память, но исчезнет уверенность, что он в Москве свой, что всегда найдется угол, где его накормят, обогреют и утешат и где он на миг может окунуться в безмятежную веселую сторонушку, величаемую детством.
Чувство огромной, невосполнимой потери до такой степени огорчало Василька, что он с трудом подавлял желание громко и протяжно завыть. Он проклинал себя за то, что не ценил матери и родного очага, он проклинал человеческое безжалостное существование, которое, повинуясь какому-то злому и мстительному наказу, гонит человека в жестокий иссушающий полон, именуемый одиночеством.
Глава 14
Бессонная ночь сказалась. Веки тяжелели и против воли закрывались; мысли поплыли, растворяясь и исчезая, словно лед в талой воде; шапка то и дело съезжала на лоб. Василько ехал в полудреме. Забытье менялось коротким пробуждением, удивленным взглядом мутных очей на медленно меняющуюся обстановку.
Помнит он подрагивающую шею и пофыркивание Буя, да изредка косящийся в его сторону сине-огненный лошадиный глаз, да искрящийся снег внизу и по сторонам.
Только подъезжая к городу, он смог осилить дремоту, так как спешился и натер лицо снегом.
Впереди показался холм, на котором угадывались очертания высоких стен и шатровых стрелен града. Он ехал по льду реки, но не той озорной и извилистой, что огибала его село, а многоводной, широкой, несшей свои студеные струи в земли дальние, незнаемые и заветные.
Когда-то она казалась самой великой рекой на земле – он с обидой узнал, что Москва-река меньше Оки и Волги, и испытывал к ней такую же жалость, какую бы испытал, обнаружив давно забытую и когда-то любимую игрушку.
Там, где река изгибалась лукою, правый берег горбился, полз круто на тянувшиеся с полверсты вдоль реки горы. В их сторону Василько посматривал неприязненно. На горах находилось село Воробьево, вотчина самого лютого его недруга, Воробья. Слева от Василька лежала низмень, вдававшаяся большой лукой в реку и простиравшаяся до самой Москвы. Летом на ней зеленели и источали томное благоухание поемные луга. Паслись на тех лугах скот да табуны коней. Сейчас же здесь белая пустыня. Снега сравняли берег и реку, их пронизывали людские и звериные следы.