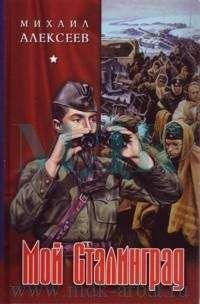Валерий Кормилицын - Держава (том второй)
— А у меня трохи осталось во фляжке, — сознался ефрейтор. — Пока Пал Палыч не видит, может, примем по глоточку? — достал мятую кружку, и, на утвердительный кивок Рубанова, плеснул в неё из фляжки.
— Сменили мадам Клико на сударя Ханшина, — с удовольствием выпил мерзкий напиток Аким, даже не думая о том, что пьёт с нижними чинами.
Они вдруг стали для него просто русскими людьми, с которыми недавно проливал кровь за Россию.
Его сентенция о «сударе Ханшине» привела Зерендорфа в неописуемый восторг. Он просто свалился на гаолян, приговаривая:
— О–о–ой, умира–а–ю-ю.
Следом, вначале несмело, а затем во всю глотку, зашлись смехом денщики, а за ними и Рубанов, вспомнивший слова Бутенёва, сказанные ему давным–давно, может, даже, в другой жизни: «Будешь на войне, ничего не бойся… Там всё может быть… Ты, брат, как придётся умирать, шути над смертью, она и не страшна будет…».
Смеялись долго, пока Аким не заметил, что его друг уже не смеётся, а рыдает.
— Погибли, — сел тот на сноп гаоляна, вытерев слёзы. — И Сашка Ковалёв. И полковник Лайминг. То ли убиты, то ли раненые попали в плен: Святополк—Мирский, капитан Максимов, комбат Роивский, Рава с Сорокиным… А мы вот живы, — достал он шашку. — Как–то случайно штык японский отбил, — указал на скол лезвия под гравировкой: «л. — г. Павловский полк». — Испортил оружие.
— Ты его не испортил… Ты сделал его музейным экспонатом Павловского полка.
— Ага! Как и ты свой бинокль. Дети и внуки станут приходить в музей и вспоминать подвиги предков, — иронично хохотнул Зерендорф.
— А Козлов макаке задницу штыком проткнул, — загробным голосом сообщил Сидоров, — удивляясь наступившей тишине, прерванной вдруг гомерическим хохотом.
— Ну, задницу–то в музей не возьмут, — задыхаясь от смеха, произнёс Рубанов.
— Да и не догонишь её, — добавил Зерендорф.
С этим смехом полностью ушло напряжение боя, и успокоились нервы.
«Оказывается, прав был капитан Бутенёв, — подумал Аким. — Смейся над смертью, она и отступит», — несколько изменил смысл капитанских слов.
— Спать пора, стал руководить компанией виновник веселья — Козлов. — Мою шинель на гаолян постелем. Ложитесь на неё, вашброди, а другой вас укроем…
— А как же вы? — сквозь сон поинтересовался Аким.
— А мы тут, с краешку, у костерка подремлем…
Утром солдаты достали верёвочки, тесёмки, ремешки и стали прикручивать с их помощью к сапогам полотняные помётки.
— Разрешите, вашбродь, сапог, — указал на оторванную подошву рубановской обуви Козлов, и мигом прикрутил её бечёвкой. — На первое время хватит, — полюбовался своей работой.
— Подъём… Подъём, — подошёл откуда–то давешний капитан, что велел Рубанову руководить ротой. — Ну и видок у вас, — восхитился он.
Да-а. Генерал Драгомиров обмер бы от возмущения, — окинул себя беглым взглядом Аким.
— Будем отступать к горным перевалам, — произнёс капитан, взяв у Рубанова карту. — Кашталинский приказал там окапываться. А Засулич, поначалу, дал команду отступать к Ляояну.
— Вот так здорово. А чего сразу не к Владивостоку? — поддел высокое начальство Рубанов.
— От сильного испуга, полагаю, — козырнул Зозулевский, направляясь к другой роте.
Двигаясь за Восточным отрядом, 1‑я армия генерала Куроки практически без боёв, сосредоточилась в районе Фынхуанчена.
После Тюренченского боя, поскольку Алексеев находился в Порт—Артуре, государю послал доклад Куропаткин: «Вследствие перерыва телеграфного сообщения, не имею донесений от генерала Засулича. По показаниям лиц, прибывших из Фынхуанчена, 18 апреля, японцы, действуя с фронта подавляющей артиллерией, превосходными силами атаковали наш левый фланг, охватив его. Защищаясь упорно, переходя в наступление, нанеся японцам тяжёлые потери, наши слабые силы не могли удержать позиции и отступили. Оставив в руках неприятеля несколько орудий».
На следующий день дополнил свой доклад: «Японцы, поражаемые нашим огнём, производили беспрерывные атаки всё свежими войсками, но не решались бросаться в штыки. Обойдённые противником с обоих флангов и тыла батальоны 11‑го полка, чтобы пробиться, несколько раз с музыкой бросались в штыки. Впереди полка шёл полковой священник с крестом, раненый двумя пулями. Только штыковая работа дала 11‑му полку возможность пробиться».
Как позже узнал Аким, «несколько орудий», составили 22 пушки. К тому же враг захватил 8 пулемётов «Максим», редкое по тем временам оружие.
Но главное даже не в этом. Материальную часть можно восстановить. Главное заключалось в том, что поражение подорвало моральное состояние русских войск, и нарушило веру нижних чинов и обер–офицеров в своих генералов.
К тому же 1‑я армия генерала Куроки оказалась на маньчжурском берегу реки Ялу, и получила оперативный простор для своего дальнейшего передвижения. Теперь всё южное побережье Ляодунского полуострова открывалось для беспрепятственной высадки японских войск, чем не преминул воспользоваться главнокомандующий Ивао Ояма.
В полдень хоронили умерших от ран.
За биваком построились остатки полка. Перед ними, завёрнутые в циновки из гаоляна, лежали их товарищи… Их бывшие товарищи… о которых осталась теперь только память…
Отец Стефан, несмотря на раны, нашёл в себе силы отпеть павших, только недавно ещё шедших рядом с ним со штыками наперевес.
— Шапки долой, на молитву! — послышалась команда и несколько оставшихся в живых, израненных музыкантов, заиграли: «Коль славен…»
Аким стоял на правом фланге взвода, который именовался ротой, и с замиранием сердца вслушивался в торжественные и величавые звуки гимна.
Слёзы текли по лицам трубачей. Слёзы текли по лицам солдат, и неожиданно для себя он ощутил, что по его лицу тоже потекли слёзы.
Он вспомнил Сашку Ковалёва, полковника Лайминга и пропавших без вести товарищей…
Отец Стефан служил наизусть, не открывая Евангелия, которое и не смог бы удержать в израненной руке, и слёзы текли по щекам священника. Ведь он хорошо знал павших воинов, не раз встречался с ними и беседовал.
— Вечная память воинам, на поле брани убиенным, — закончил он службу.
11‑й восточно–сибирский стрелковый полк расположился на днёвку у подножия лесистой сопки в версте от ущелья, по дну которого шумно текла неглубокая узкая речушка.
Солдаты забрались по пологому склону повыше, чтоб не донимал дым походных кухонь и, развязав заплечные мешки, раскладывали хлеб и лук, у кого он имелся.
Неимущие чистили котелки, облизываясь на скорый обед.
Аким сидел на мягкой, поросшей мхом кочке и, саркастически прищурившись, обозревал выкрашенный Козловым в сиреневый цвет, сохнущий на ветке, китель.
— Да здравствует синька «Идеал», — выдал мысль облюбовавшему соседнюю кочку Зерендорфу, мундир коего денщик Сидоров тоже окрасил в весёлый пасхальный синий цвет.
— Н-да! — глубокомысленно произнёс Григорий. — Спасибо, полковник Кареев наши кителя не видит, — избил за что–то прутиком не ожидавшего напасти, безвинного рыжего муравья, трудолюбиво тащившего кусочек мухи.
— Ну ты чего к животному пристал? — с улыбкой осудил садистические наклонности друга. — Это же не японский, а китайский муравей… Теперь сидит в муравейнике и угрюмо думает: «Вот пришли русские и ни за что задницу надрали… Отродясь такого в здешних местах не водилось».
— У муравьёв нет нации, — сделав умное лицо, от скуки, решил предаться спору Зерендорф, но Аким пропустил этот философский выпад мимо ушей, добродушно поинтересовавшись:
— А вон у той змеи? — восхищённо понаблюдал за прыжками товарища, и умиротворённо зевнул. — По физподготовке Кареев бы тебе высший бал поставил, — поощрительно похлопал в ладоши. — Как бы мне брата своего увидеть и деньжат подзанять? — предался он размышлениям, не обращая внимания на сурово сдвинутые зерендорфские брови.
Он не знал, что конный отряд Мищенко отходил за Фынхуанчен на соединение с Восточным отрядом.
Затем комбриг получил новую задачу — идти на Шализай и охранять пути к Сюяню и Хайчену. Бригада отходила к Сюяню, делая в сутки по 2–3 версты. Конные разъезды из 10 – 12 человек ежедневно имели перестрелки с японцами.
Вот так случайно, как часто бывает на войне, десяток казаков на разгорячённых мохнатых лошадях, наткнулись на остатки 11‑го полка.
Руководил кавалеристами, разумеется, Глеб Рубанов.
Вначале Аким подумал, что брат ему снится… Затем, согласно прогрессивным новым веяниям, решил, что сумел материализовать мысли…
Но когда не менее поражённый Зерендорф, покинув обжитую кочку и отвалив в удивлении челюсть, несильно стегнул прутиком по родимой спине, приравняв сим деянием подпоручика к муравью, до него дошло, что всё это происходит наяву, в данное время и в данном месте, и колдовство тут не причём.
— О–о–о! Господин корнет, тьфу, то есть — пардон, как учит Клеопатра Светозарская, господин хорунжий, какими судьбами? — вульгарно вытаращив на младшего брата глаза, что, несомненно, осудила бы мадам Камилла, вопросил старший.