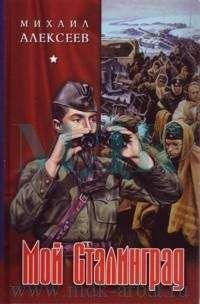Валерий Кормилицын - Держава (том второй)
— Ребята, отходим, — появился из дыма сражения полковник Лайминг. Китель на нём был разорван, лоб залит кровью. — Раненых не оставлять.
Над полем боя стояла плотная завеса дыма от непрерывных разрывов шимоз.
Остатки полка, отстреливаясь, отступали по ущелью, и оказались зажаты врагом в теснине между двух сопок. Выход перекрыл японский полк.
— В штыки их! — закричал вставший перед остатками полка Лайминг, и тут же грудь его окрасилась кровью, а другая пуля пробила голову.
Запрокинувшись, он закачался и упал на руки ординарца и подпоручика Сорокина.
— Командир убит! — пронеслось по рядам и полк, потеряв управление, остановился под градом японских пуль.
И тут место убитого командира занял не офицер, а полковой священник отец Стефан.
Подняв над головой висевший поверх рясы крест, он как–то тихо и обыденно произнёс:
— Вперёд ребята. Мы русские, — и первый бесстрашно пошёл на врага.
— Музыканты — гимн! — приказал вставший рядом со священником князь Святополк—Мирский.
Оркестр грянул «Боже, царя храни!», и прокопченные от дыма и гари, истекающие кровью солдаты и офицеры, пошли вперёд, забыв о чуть было не начавшейся панике.
Рубанова охватил экстаз боя.
Он слышал российский гимн, и воочию видел своих врагов.
«Я — РУССКИЙ, — со всей силой своей души ощутил он это понятие. — И не могу позволить японцам победить нас. Не могу позволить им считать себя храбрее, сильнее и выносливее русского солдата», — выхватил из ножен шашку с павловским орлом на лезвии, и, что есть силы, закричал:
— В штыки их, ребята, — заметив краем глаза, как покачнулся раненый священник и выронил крест.
Отца Стефана поддержали крепкие руки. И он снова пошёл впереди русского воинства, неся перед собой православную святыню.
Знаменосец развернул знамя, а несколько оставшихся в живых музыкантов, продолжили играть гимн.
И тут японцы дрогнули.
Они тоже были храбрые воины, но такая сила духа поразила их.
Русские бросились в штыки и враги стали отступать.
Но обстрел продолжался и с тыла и с флангов. Воины падали, но на их место вставали живые.
Израненные, истекающие кровью, но пока ещё живые, а значит, способные к сопротивлению.
И полк пробился из окружения, прорвался штыковым ударом из теснины сопок.
Рубанов медленно выходил из горячки штыкового боя: «А солнце–то уже садится, — удивился он, — только утро началось и уже закат», — отстранённо разглядывал освещённые косыми лучами камни под ногами, кочки и впадины. О японцах почему–то не думал, и даже забыл об их существовании.
После боя на тело навалилась свинцовая усталость. К ногам будто прицепили гири — так тяжело стало идти. Но он шёл, временами проваливаясь в забытье, и с трудом выходя из него. Один раз споткнулся и чуть не упал, надорвав подошву сапога.
Остатки батальона брели по ущелью, тяжело переставляя уставшие ноги в разбитой обуви.
Вышли к руслу пересохшей речушки, топча подошвами мелкую гальку, и, наконец, оказались в долине с небольшой деревушкой на краю, и с полем гаоляна за ней.
— Тылового укреплённого рубежа нет. Промежуточных дорог между боевой линией и тылом — тоже, — услышал где–то над собой голос Аким.
С трудом расцепив слипающиеся веки, поднял глаза, увидев сидящего на лохматом коньке незнакомого пожилого капитана в форме 11‑го восточно–сибирского полка.
— Зозулевский Тимофей Исидорович, — представился тот. — Офицеров в строю почти не осталось… Вот вам карта, подпоручик, командуйте ротой, и выводите её в эту точку, — указал пальцем населённый пункт. — Да вы ранены, — кивнул на плечо, — перевяжитесь, — легонько шлёпнув ладонью лошадку, понёсся небыстрой рысцой по узкой дороге в сторону деревушки.
Получив распоряжение и уяснив цель, Аким начал медленно приходить в себя: «А где Зерендорф? — с трудом покрутил по сторонам головой. — Что–то шея затекла», — оглядел понуро бредущих усталых людей, которые из солдат превратились в отупевший сброд.
С неожиданной энергией, Рубанов громко скомандовал:
— Ружья на руку, — и зачем–то выхватил шашку, отметив краем сознания, что голос прозвучал довольно–таки звонко: «Не как у Зерендорфа, конечно, — окончательно взбодрился он, возмутившись в душе, — не строй, а стадо». — Рота! В колонну становись! — прокричал он.
Усталые, но привыкшие к командам люди, не восприняв ещё умом приказ, по привычке стали равняться в подобие строя.
— Левой, левой, — командовал Аким, подбадривая людей, и на его глазах они стали оживать, постепенно превращаясь в солдат. — Господин подпоручик, — наконец увидел Зерендорфа: «Вроде, не ранен», — внимательно оглядел друга, — принимайте под команду вторую роту.
— Есть! — без раздумий ответил тот. — Рану перевяжи, — махнул рукой Акиму и побежал выполнять приказ.
«Свеж и полон сил», — порадовался за друга Рубанов:
— Ать–два. Ать–два, — вновь стал командовать, и, обернувшись, увидел не сброд, а строй солдат, уже с осмысленным взглядом, и снова готовых идти в бой: «Русские быстро восстанавливаются», — поднёс к глазам карту.
— Вашбродь, разрешите стать в строй, — обратился к нему высокий солдат, лихо щёлкнув стоптанными каблуками. — А то от своих отбились, — на всякий случай добавил он.
— В сапогах на этот раз, — добродушно ухмыльнулся, узнав нахального нижнего чина, что грел в костре босые ноги, когда они, приехав, искали полк. — Становись, — ещё раз хмыкнул Рубанов.
Пройдя деревушку, рота вновь втянулась в ущелье, выйдя из него в кромешной уже темноте.
— Рота стой! — крикнул он. — Привал до утра. Разводите костры и отдыхайте. — С трудом узрев в темноте товарища, приказал: — Зерендорф, выставь часовых.
Подпоручик послушно ушёл выполнять приказ.
— Вашбродь, дозвольте, рану перевяжу, — подошёл к нему Козлов.
— Живой?! Ну, слава Богу, — обрадовался Аким. — Что за рана? — оглядел рукав грязного мундира. — В темноте не разобрать — грязь или кровь, — направился к разложенному костру. — Сидоров, и ты жив! Павловский полк непобедим и бессмертен, — сел на приготовленную нижними чинами вязанку гаоляна. — Перевязывай, — разрешил он, — если разберёшь чего в темноте: «Помню, отец говорил насчёт героев и толпы», — сморщился от боли. — Поосторожнее, чёрт. Над живым человеком ведь измываешься: «Прав оказался Михайловский. Повёл сегодня за собой толпу… А до меня — полковой священник в атаку полк водил…»
— Исполнено, Аким. Часовых выставил, — отвлёк товарища от философских размышлений Зерендорф, брякаясь на край гаоляновой вязанки.
— Вашбродь. У меня сорочка чистая, не побрезгуйте, — протянул рубашку Козлов. — А то ваша в крови вся перемазана и порвана.
— Спасибо, Никита, — поблагодарил нижнего чина офицер.
— А китель при первой возможности заштопаю и почищу, — обрадовался денщик тому, что офицер не побрезговал его рубахой.
— Аким, — взял в руки рубановский бинокль Зерендорф. — Ты точно в рубахе родился… Ну не в той, конечно, что Козлов презентовал… Смотри, как бинокль пуля поуродовала… Да она в нём и застряла, — ахнул Зерендорф.
Рубанов поднёс бинокль к огню и разглядел сплющенный наконечник японской пули, торчащий из корпуса правой зрительной трубы:
— Прав был Суворов, — сощурив от дыма глаза, произнёс он. — Пуля — дура! Взяла, и хорошую вещь испортила…
— Да-а, вашскабродь, счастливчик вы, — как–то незаметно у костерка оказался и ефрейтор Сидоров. — Располагайтесь снедать, — указал на разложенные на куске материи сало, хлеб и приличных размеров луковицу. — Одноколки офицерского собрания где–то там остались, — махнул в сторону реки.
— О–о–й, — будто заболели зубы, застонал Козлов. — И коняшка наш пропал, и походный погребец.
— А в нём лежали все мои сбережения, — задумчиво почесал начавшее саднить плечо, Рубанов
«Здря трёшенку повозочному отдал, — тяжко страдал Козлов. — Как бы она нам теперь сгодилась».
— У меня 80 рублей есть, — с довольным видом похлопал себя по груди Зерендорф. — Денежки и честь при себе держать следует, — тут же сочинил афоризм. — Не грусти, Рубанов. Хоть мы и в белых кителях светились, зато знаки ПВУ и Павловского полка врагу не достались вместе с погребцом и лошадкой… Теперь твоего мохнатого иноходца Хунченом назовут или Тоямой, — неунывающе заухал он, наблюдая, как денщики перевязывают друг друга. — А на мне даже царапины нет, — притих и уныло вытаращил глаза, уразумев, что и его родная лошадка тоже досталась жестокосердному неприятелю.
— Язык только болтовнёй натёр, — неизвестно на что обиделся Рубанов.
— Это в тебе пропажа капитала плачет. Неимение денег портит офицерский характер, — вновь развеселился Зерендорф, мысленно махнув рукой на своего боевого мустанга и принимаясь за еду. — Э-эх, сейчас бы глоток ханшина, пока Ряснянского рядом нет, — размечтался он, с хрустом разжёвывая луковицу.
— А у меня трохи осталось во фляжке, — сознался ефрейтор. — Пока Пал Палыч не видит, может, примем по глоточку? — достал мятую кружку, и, на утвердительный кивок Рубанова, плеснул в неё из фляжки.