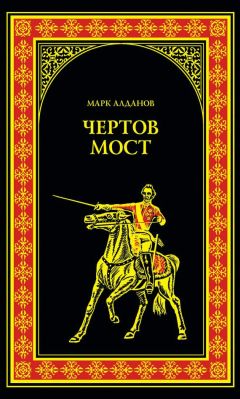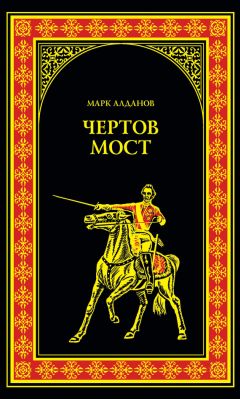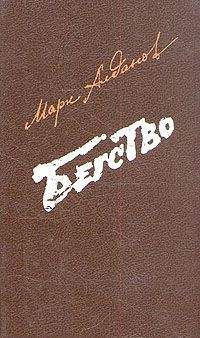Станислав Федотов - Возвращение Амура
Катрин стояла в спальне на коленях перед освещенным лампадой образом святой Екатерины. Молилась усердно, но по-своему, по-французски: хоть она и говорила по-русски уже довольно неплохо, молитвенный церковно-славянский язык остался за порогом ее понимания. У себя на родине к католической религии она была равнодушна, а от православной почему-то сразу после крещения потеплело на душе, появилась уверенность, что все, что ни делается, – к лучшему, и постепенно сложилась привычка обращаться к Богу, а чаще – к своей святой. Пусть понемногу, но – каждый день. Муж поначалу удивлялся ее усердию, а потом перестал замечать. Сам он в Бога верил искренне и всей душой, но в церковь ходил лишь по праздникам, а молился и того реже – просто не было нужды.
Сейчас Катрин просила святую Екатерину освободить ее душу от смятения, вернувшегося вместе с Анри, который почему-то называл себя Андре Леграном. Смятение это было перемешано с обидой и гневом на Анри – почему он не нашел возможности дать о себе знать, ведь о других попавших в плен в газетах так и писали: «находятся в плену у мятежников», – а он оказался в списках погибших. Знай она, что любимый в руках врагов, но – живой, она ждала бы его сколько угодно, хоть всю жизнь. А теперь…
Она вдруг вспомнила, что не перепрыгнула железную дорогу перед идущим поездом, и прав оказался Анри – значит не отрезала от себя прошлое, вот оно и вернулось.
– …Моли Бога обо мне, святая моя покровительница. Помоги мне, вразуми, наставь на путь истинный, подскажи сердцу неразумному, как быть, что делать… – истово крестясь, шептала она и вдруг замерла, глядя куда-то вдаль, мимо лампады, мимо все понимающих глаз святой…
Верхом на лошадях – Катрин впереди, Анри за ней – они пробираются лесной тропинкой сквозь густые заросли молодых дубов и каштанов, перевитых лианами… «Куда ты меня ведешь? – смеется Анри, постоянно цепляясь кудрями за сучки и ветки. – Я скоро буду лысым, как дед». «Сейчас увидишь, – отвечает Катрин, – и не будешь жалеть о своих волосах». В зарослях много всякой бегающей и летающей живности: пару раз тропинку перебегали рыжие лисы, где-то невдалеке повизгивают кабаньи поросята и перехрюкиваются взрослые кабаны, по веткам скачут дрозды и сороки… Внезапно заросли резко кончаются, и тропинка выбегает на ярко-зеленую лужайку, охватившую подковой небольшое озеро. В его изумительно гладкой поверхности отражаются лазурное небо, крутые скалы на противоположном берегу и далекие вершины гор, среди которых выделяется белошлемный Винмаль.
«Какая красота!» – восклицает Анри, а Катрин спрыгивает с коня, пускает его свободно пастись и сбрасывает с себя одежду. Оглянувшись, видит изумленное лицо Анри и звонко смеется: «Ну что ты стоишь, как столб? Здесь никого нет. Давай купаться!» – и, разбежавшись, прыгает в прозрачную воду, сразу погружаясь в прохладную глубину. Нырнув, она открывает глаза, разворачивается к берегу и ждет, плавно шевеля руками и ногами, чтобы упругая вода не вытолкнула ее на поверхность. Совсем рядом, в какой-то паре метров от нее, жидкая толща взрывается облаком пузырей, а из этого облака появляется зеленоватое тело Анри. Его раскрытые глаза ищут под водой ее, а руки тянутся к ней… И тогда, сделав резкий гребок, она устремляется навстречу и оказывается в нежных и сильных объятиях…
Катрин видит кувыркание в воде обнаженных тел, долгие поцелуи, чувствует жадные руки, скользящие по груди, животу и ниже, туда, где, кажется, совсем недавно появилась гривка кудрявых рыжих волос… и это так приятно и так желанно… а после, уже на берегу, ощущает сплетенность тел, слышит свой стон, в котором немного боли, всего лишь чуть-чуть – она знала, что первый раз так и должно быть, – и рвущееся снизу, через живот и сердце, не сравнимое ни с чем наслаждение…
Все-все промелькнуло стремительно и в то же время с такой острой четкостью, что Екатерина Николаевна изумилась своей памяти, и на щеки ей выплеснулась горячая краска вины перед мужем, а внутри, где-то возле сердца, хотя, может, и в самом сердце, дрожала, пела и не хотела успокаиваться тонкая струнка восторга первой любви.
И вдруг дурнота окатила голову, и, не успела Катрин опомниться, как с низу живота вверх, к горлу, поползла тошнота, а затем спазм боли бросил ее навзничь и выплеснул рвоту на ковер. Она зажала рот двумя руками, не в силах позвать на помощь Лизу или кого-нибудь еще; спазм снова скрутил все внутренности, жидкость изо рта брызнула сквозь пальцы. Поняв, что удерживать ее бесполезно, Екатерина Николаевна уперлась руками в ковер, приподнялась и с трудом вытолкнула из горла:
– Помогите… Лиза… Лиза!..
В спальню вбежал Муравьев, подхватил ее на руки:
– Катенька, милая, что ты, что ты?!. – и с изумлением увидел, что она улыбается.
– Вот и дождались, – услышал он хриплый горячий полушепот Екатерины Николаевны. – Бог все за нас решил…
2Муравьев быстрым шагом спустился по ступенькам «черного» крыльца, выходящего во двор, к ожидавшей рессорной бричке, запряженной тройкой лошадей. Серый в яблоках коренник рыл копытом землю, кивал крупной головой, дергая поводки и звякая поддужным бубенцом. Правая пристяжная, рыжая кобылка, норовила ухватить зубами чумбур, натягивала постромки; левая, гнедая, стояла спокойно, лишь переступала ногами да фыркала иногда.
– Застоялись, ожидаючи, – сказал Вагранов, берясь за вожжи. Кучеров решили не брать – для экономии. – Ух, и понесут!
– Мы и сами застоялись, – буркнул Николай Николаевич, усаживаясь удобней и расстегивая шинель: майское солнце начинало припекать. – Ты с Элизой-то простился?
– Простился, – сразу помрачнел Вагранов.
– Плачет?
– Плачет.
– Моя вон тоже плачет. Уговаривала взять ее с собой. Предчувствия, говорит, нехорошие. Ну куда же ей в ее положении. Беречься надобно… Ладно, трогай!
На крыльцо к Екатерине Николаевне вышла Элиза, обняла подругу. Вместе помахали отъезжающим, те тоже махнули в ответ. Два казака из сопровождающих отворили ворота, выпуская бричку и двух других своих товарищей, ведущих лошадей в поводу. На улице их ожидал пароконный тарантас, в котором разместились адъютанты Василий Муравьев и Иван Мазарович с багажом. Вагранов придержал тройку, казаки закрыли ворота, вскочили в седла и рассредоточились: двое – урядник и рядовой – впереди тройки, двое позади тарантаса, все с шашками на боку и карабинами за спиной. Эскорт полагался генерал-губернатору по чину, а в Забайкалье, куда направлялся Муравьев, к тому же пошаливали разбойники, так что оружная охрана была совсем не лишняя. Личное оружие было и у всех остальных. Николай Николаевич впервые взял с собой два «лефоше», купленные три года назад в Париже.
Именно угроза нападения разбойников послужила началом тяжелого разговора по поводу поездки в Забайкалье. Катрин напомнила о договоренности всегда путешествовать вместе и делить все тяготы на двоих.
– На двоих! – воскликнул Муравьев. – А нас теперь трое, и третьего надо беречь как зеницу ока! А там – шутка ли? – разбойники!
Однако Екатерина Николаевна смирилась только после клятвы мужа на следующий год сдержать это обещание, даже если придется ехать в Камчатку.
– А как же маленький? – все же спросил Николай Николаевич. – Ему ведь будет… – Он быстро посчитал на пальцах. – Ему всего-то будет четыре месяца!
– Там посмотрим, – мягко сказала Екатерина Николаевна. – Мне важно знать, что ты согласен быть всегда и во всем вместе.
Вагранов Элизе ничего не обещал, и она, естественно, в поездку не просилась, но накануне поздно вечером, когда весь дом уже спал, случилось нечто весьма и весьма важное для них обоих.
После общего ужина они, как обычно в последнее время, уединились в маленьком будуаре перед спальней Элизы. Девушка забралась с ногами на оттоманку, Иван Васильевич уселся рядом с изголовьем прямо на ковре. Они могли так подолгу беседовать, хотя, вообще-то, беседами их общение назвать было трудно – скорее, это были монологи: Элиза рассказывала о Франции и о себе, Иван – истории из солдатской жизни: главным образом о своих товарищах, о любимом начальнике Муравьеве и, лишь по настоятельным просьбам Элизы, про свой путь от сына вятского крестьянина до офицера и дворянина. Но про себя-то как раз говорить старался меньше всего. И не потому, что не было за его плечами ничего такого-этакого героического – хватало, как говорится, с избытком, но Иван Васильевич совершенно искренне считал свои военные приключения рутинным армейским бытом, недостойным внимания утонченной musicienne. К тому же стеснялся своего мужицкого происхождения. Правда, когда узнал ее невеселую историю – что она сирота, училась на деньги родственников, зажиточных крестьян-виноделов, а теперь предоставлена самой себе, – немного приободрился, поняв, что Элиза нашла в нем некую жизненную опору. Однако, осознавая всю бесперспективность своей дальнейшей жизни, не строил на этот счет никаких иллюзий и не позволял себе развивать их отношения за границы братской дружбы.