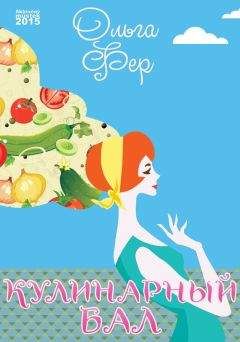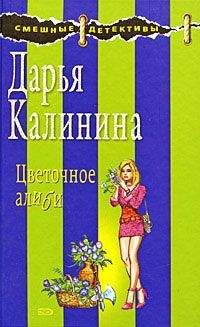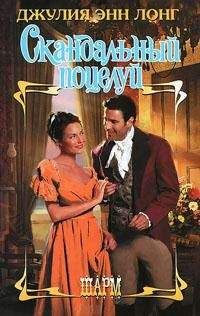Валерий Кормилицын - Разомкнутый круг
Не доходя приличного расстояния до палатки, корнеты, генерал и Вайцман услышали забористую русскую речь. Великий князь, в отличие от Вайцмана, умело воспользовался нужными, по его мнению, словами, ловко связав воедино кавалергардов, обиженного адъютанта и растакую-то гвардейскую мать…
Когда они вошли в палатку, довольный своим ораторским искусством командующий царской гвардией перекинул словесный поток с кавалергардских головушек на конногвардейские.
– А вот и мой подшефный полк, – горестно воздел руки, – цвет гвардии…
При этих словах Янкович гордо поглядел на командира кавалергардов генерал-майора Депрерадовича, стоявшего чуть в стороне от своих корнетов и уныло запустившего два пальца под красный воротник мундира, словно он душил его.
Конногвардейские корнеты, вытянувшись во фрунт, встали рядом со своим командиром, а Вайцман, делая вид, что он здесь случайно, расположился поближе к обиженному немцу.
– Сразу и не рассудишь, кто более виновен, – патетически возвысил голос великий князь, – одни надерзили старшему начальнику, обозвав его «бутербродом».
Рубанов с Нарышкиным при этих словах, покосившись на княжеского адъютанта, а затем на кавалергардских корнетов, тоже вытянувшихся во фрунт, с трудом сдержали смех. Оболенский стоял с безразличным видом и спокойно разглядывал бушующего князя Константина.
«Здорово, однако, мы успели к высшему начальству привыкнуть, – отметил Рубанов, – уже не трепещем, как раньше».
– …А другие, – метнул строгий взгляд царский брат на конногвардейцев, – и вовсе учудили… так перепились, что позабыли одеться и ездили перед добродетельными дамами в чем мать родила…
Кавалергарды уважительно глянули на конногвардейцев, тут же расстроившись, почему им не пришла в голову такая дельная мысль…
– …Чем смутили их до обморока, некоторые и сейчас еще не пришли в себя… Ну, что вы заслуживаете за это? – осмотрел присутствующих великий князь и, видимо, остался доволен произведенным эффектом. – В Сибирь, конечно, я вас не отправлю, но сегодня же подам рапорт его Императорскому Величеству о разжаловании вас, господа корнеты, в рядовые, отчислении из гвардии и отправке в Молдавскую армию… Все! Свободны! – махнул он рукой. – И чтоб завтра на маневрах показали себя в лучшем виде!
На царском совете после удачно проведенных маневров подняли вопрос и о нарушителях воинской дисциплины и субординации. Император вспомнил бывших юнкеров, глядевших на него с любовью и благоговением, и решил не губить их карьеру, к тому же некоторые генералы заступились за неразумных.
– Молодость! – говорили они, улыбаясь и вспоминая, что сами творили во времена царствования Екатерины Великой. – По службе-то они молодцы? Так ведь? – обратились к генералу Янковичу.
– Нареканий к корнетам не имею! – ответил тот.
– Тогда сделаем так! – решил государь. – В рядовые разжаловать не станем, но следующий чин задержим.
Присутствующий тут же адъютант великого князя обиженно вздохнул.
– Однако в Дунайскую армию их направим, как просит в рапорте великий князь, но из гвардии отчислять не будем… – взяв тонко отточенное перо, написал свой рескрипт Александр.
– Я спокоен, как палаш в ножнах! – образно отреагировал, узнав о наказании, Рубанов.
– Главное, не разжаловали, значит, до генералов дослужимся! – успокоил себя и друзей Нарышкин.
– Это почетная ссылка, чреслами чтоб поменьше трясли! – сделал глубокомысленный вывод Оболенский. – Но главное, кавалергарды нас не обскакали!
Согласно приказу по полку, у корнетов было десять дней на сборы. Пять дней прощались с полком и Петербургом, на шестой, помолясь, кортежем из трех карет направились в Москву. В одной из карет ехали маман Оболенского и Софья. Они решили проводить сына и кузена до Первопрестольной.
Честно признаться, Софья страдала не столько по кузену, сколько по этому лицемеру и вульгарному ветренику Сержу. Нарышкин большую часть времени проводил в карете с дамами.
– Как вам было не совестно, граф! – щурилась на него юная княжна.
– Граф! И много женщин видели вас обнаженным? – интересовалась мамà Оболенского.
Княжна Софья кипела яростью от ревности.
– Оказывается, вы и будочника терзали! – смеялась Оболенская.
– Он нас сильнее мучил! – отбивался, как мог, Нарышкин.
– А зачем несчастных кавалергардов в склепе пугали? – веселилась княгиня. – Ну от сына-то я нечто подобное ожидала, но вы-то, граф?!
Почему-то в душе и княгиня, и княжна Софья не осуждали корнетов.
– Петербургское общество только о вас и говорит, – произнесла Оболенская.
Они еще не могли до конца свыкнуться с мыслью, что корнеты едут на войну. За третьей каретой, набитой вещами опальных гвардейцев, ехали верхами денщики и были привязаны офицерские кони. По просьбе корнетов, в денщики к ним, по получении офицерского чина, генерал Янкович, посоветовавшись, конечно, с Арсеньевым, определил бывших дядек. Сбылась давняя мечта Егора Кузьмина – времени на сон значительно прибавилось, так как дома форму и ботфорты корнетам чистили лакеи и денщикам лишь оставался уход за лошадьми при облегченных занятиях и строевой выездке.
Побывавший на войне Янкович, жалея наказанных подчиненных, принял решение откомандировать в боевую армию и их дядек – пусть приглядят за непутевой молодежью. Дядьки были весьма довольны – прежде отдохнули в Стрельне, а теперь поваляем дурака в Дунайской армии. Красота, а главное, не стоять на постах и долго не видеть Вайцмана.
По совету Максима, жену с грудным ребенком Шалфеев отправил в Рубановку и теперь предвкушал внеуставные отношения с молдаванками либо, на худой конец, с турчанками. До самой Москвы он делился с приятелями своими мечтами и планами на будущее.
– С турчанками у тебя ничего не выйдет! – безапелляционно замечал Антип, язвительно усмехаясь.
– Поча-а-му?
– То, что у нашей бабы вдоль, у ихней – впоперек! Долго приноравливаться надо….
– Да ну-у?..
Москва поразила Рубанова какой-то своею сказочностью, истинно русским хлебосольством и малиновым церковным звоном.
Родители Нарышкина встретили приезжих, как самых дорогих гостей. Неделю гремели балы и званые обеды. Все высшее московское общество побывало в доме Нарышкиных.
В Петербург срочно полетела депеша о том, что все трое корнетов серьезно больны – отравились грибами и к месту службы в ближайшее время следовать не могут. Прилагалось заключение врача… и не простого, а профессора Московского университета.
Софи Оболенская ни на шаг не отпускала Сержа, мрачно щурясь, когда он вступал в беседу с какой-нибудь московской красавицей.
Родители Нарышкина и мамà Оболенского переглядывались и о чем-то таинственно шептались за рюмкой рейнтвейна, посматривая на молодых. Через неделю вымотанный бесконечными праздниками Рубанов на одной из карет, управляемой опытным нарышкинским форейтором, направился в монастырь к матери.
Выехав рано поутру, в обед он стучал в монастырские ворота.
Мать поразила его своею бледностью и какой-то одержимостью во взгляде. И хотя монашеское одеяние скрывало ее фигуру, Максиму показалось, что она похудела и осунулась, но больной не выглядела, напротив, жизненная сила так и кипела в ней.
– Какой ты красивый! – полюбовалась Ольга Николаевна сыном, целуя его в лоб. Улыбка тронула ее губы.
Они стояли вдвоем в узкой комнате с окошком, напоминающим бойницу, тусклый свет из окна тонкой полосой падал на неструганый стол с горящей свечой посредине и лавку, вплотную придвинутую к столу. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленькой иконы с мерцающей лампадкой в углу.
До Рубанова вдруг дошло, что вот перед ним единственный и самый родной человек в этом мире – его мать. У него будут, наверное, жена и дети, но второй матери не будет никогда. Как зло и глупо вел он себя дома, в Рубановке.
– Садись, – кивнула на лавку Ольга Николаевна и села сама. – Рассказывай!
– Мама, ну зачем ты?.. – неожиданно для себя, словно ему пять лет, всхлипнул Максим и бросился на колени, уронив голову на материнские ноги. – Я ведь люблю тебя… Очень люблю! – Слезы текли и скатывались с щек на грубое сукно материнской одежды. – Простишь ли ты меня?! Ну зачем? Зачем ты сюда пришла…
Вдруг какая-то новая мысль зажглась в его глазах, когда он поднял голову и поглядел на мать.
– Хочешь, я брошу службу и мы вместе вернемся в Рубановку?.. Ты и я! Нам больше никто не нужен…
Ольга Николаевна медленно, с любовью глядя на сына и нежно вытирая чуть подрагивающими пальцами его слезы, покачала головой.
– Поздно! Я уже подняла три раза ножницы[16]…
Взяв сына за плечи, она усадила его рядом с собой.
– А я всегда ношу твой образок! – словно маленький мальчик, похвалился Максим, потянув за цепочку и пытаясь показать матери ее подарок.
Ольга Николаевна сжала его руку и опять незаметно, уголком рта, улыбнулась . Ей тоже очень хотелось заплакать, обнять сына и никуда-никуда не отпускать… Но она сдержалась. И здесь, словно сама судьба устремилась ей на выручку, в дверь постучали, и, с любопытством стрельнув красивыми глазами в Рубанова и тут же потупив взор, зашла молоденькая послушница.