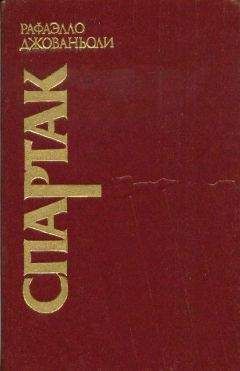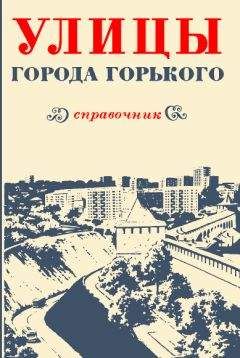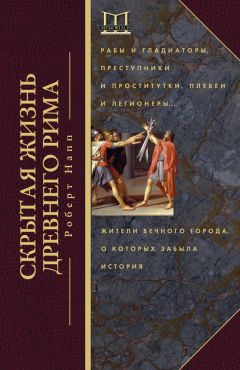Исай Калашников - Гонители
— Они велели тебе сказать это?
— Они так думают, но сказать никогда не посмеют. Что жены для тебя!
Каждый день в твою постель кидают свежую девчонку. Но не бойся, мешать тебе не буду. Не о себе, о сыне мои заботы. И тебе не мешало бы думать о нем чуть больше. Сколько жен, а, кроме Борте, одна я родила тебе сына.
Мальчик держался за полу халата матери, сосал палец. На нем был шелковый халатик, на серебряном поясе висел маленький нож, из-под расшитой войлочной шапки на виски падали косички с тяжелыми лентами. Ничего не скажешь, Хулан заботливая мать…
— Кулкан, сынок, иди сюда.
Сын спрятался за спину матери.
— Вот, видишь, видишь! Старшие дети, наверное, не пугались тебя. Хулан обличала его, уперев руки в бока.
— Ничего, привыкнет…
— Как привыкнет, если растет сиротой! А твоя старшая жена ненавидит меня. За то, что сына родила, и за то, что я меркитка. А сын наполовину меркит…
Он понимал, что она говорит о Кулкане, но за этим чудился намек на Джучи. Помрачнел, сел у порога, сопя, начал стягивать с разопревших ног гутулы.
— Тут я не буду разбирать ваши споры. Ты зря приехала.
На этот раз Хулан ничего не сказала. Снова догадалась, что дальше с ним так говорить нельзя. Позвала своего баурчи, и он принес баранину, сваренную с рисом, сладкое вино в глиняном кувшине с запотевшими боками, для Кулкана медовые лепешки. Она сама наполнила чаши вином.
— Выпей. Это снимет усталость и охладит тебя. И не сердись на меня, повелитель мой. Нет у меня ни родичей, ни близких — один ты. — Хулан кротко улыбнулась, легонько притронулась к его руке. — Я хочу быть с тобой рядом и оберегать тебя.
Вино и ее кротость расслабили его, раздражение ушло. И ему уже казалось, что Хулан сделала правильно, кинув все и приехав сюда, что она ему нужна больше, чем любой из тысяч и тысяч его людей, больше, чем любой нойон, чем сладкоголосые певуньи-китаянки.
Но Хулан не умела долго оставаться одинокой, тем более такой смиренницей. От вина щеки разгорелись, во влажных глазах появился зовущий блеск, голос стал мягко-воркующим. Она стала выпроваживать сына из юрты:
— Иди, поиграй с твоими служанками.
Хан подумал, что, если дать ей волю, напрасно будут ждать сегодня гонцы и нойоны, у него не останется для них ни времени, ни сил, сказал, усмехаясь:
— Не старайся. На войне прежде всего дело. Люди ждут.
Думал, что она снова начнет дерзить и упрекать. Но Хулан обхватила его руку горячими ладонями, проговорила, жалея:
— Стареешь, мой повелитель.
— И ты не молодеешь…
— Мне — рано. Только в полную силу вошла. Хасар недавно увидел и удивился. «Какая, говорит, славная женщина из тебя получилась, Хулан». А уж он в женщинах толк понимает!
Она поддразнивала его, и он хорошо понимал это, а все же ощутил легкий укол в сердце. Принижающая его ревность взбудоражила, повлекла к жене. Ему уже не хотелось ее отпускать. Но пересилил себя, сухо сказал:
— Иди. Мне надлежит заняться делом.
— Вечером жду тебя в своей юрте. Придешь?
Выпроводив ее, сразу же позвал Боорчу.
— Много ли дел на сегодня, друг Боорчу?
— Кое-что есть. К тебе просятся монахи. С жалобой. Сотник-кидань, перебежавший в прошлом году, — с просьбой. Сотник храбрый, неглупый.
Женщина… Этой не знаю, что нужно. Не успел расспросить. Если пожелаешь, этими займусь я, а к тебе впущу гонцов от Мухали, Джэбэ и Елюй Люгэ.
— Хорошие ли вести привезли гонцы?
— Хорошие, хан.
— Тогда подождут. Давай сюда жалобщиков и просителей. — Перед глазами все еще стояла Хулан, и он спросил, лукаво посмеиваясь:
— Женщина молодая?
Тебе ею хочется заняться? С нее и начнем. Потом посмотрим…
Бросив взгляд на женщину, он насупился. Она была не старая, но лицо посерело от усталости или горя, глаза потухли. От такой ничего интересного не получишь. Распустит слезы — и все. Переводчик, онгут с сонно-равнодушным лицом, безучастно ждал, когда она заговорит. Боорчу присел к столику, отломил от медовой лепешки, не доеденной сыном, кусочек, бросил в рот.
— Моего мужа захватили твои воины, — тихо сказала женщина и замолчала. — Отпустите его.
— Многих мужей захватили мои воины. Что будет, если придут все ко мне и станут просить?
— Он не как все. Такой человек рождается один на сто тысяч! — Голос ее отвердел.
— Твой муж известен многим людям? Что же он сделал такого? Чем прославился?
— Мой муж слагает песни, прославляя людей.
— А-а… Он прославляет тех, кто бежит сегодня от моих воинов, кто не умел разумно жить и не умеет достойно умереть. Настоящим делом занимался твой муж. Потому горька его участь. — И проворчал:
— Один на сто тысяч…
Таких дураков на каждую тысячу сотня.
Переводчик, видимо, перевел и это. Женщина вскинулась, заговорила быстро-быстро:
— О нет, нет? Он — редкий человек. Словом он врачевал горе, вселял в сердце надежду, учил доброте, прямоте, честности. Он должен жить! Спаси его, и будущие поколения благословят твое имя!
— А это и вовсе глупость. Мое имя прославлено будет не такими вот пустяками. Где взяли твоего мужа?
— Вместе с другими мужчинами он ушел в горы. Его захватили три дня назад.
— Боорчу, не с теми ли он был, которые нападали на обозы, на отбившихся всадников?
Боорчу расспросил женщину, где был захвачен ее муж, подтвердил:
— С теми.
— Зачем же ты пришла?! Он убивал моих воинов. Он враг!
— Великий хан, за свою жизнь он не убил и курицы. Яви милость, великий хан, не губи человека, чья жизнь была страданием за других. Спаси его! Заклинаю тебя твоими предками! Возьмите в обмен мою ничтожную жизнь!
Убейте меня, сделайте рабой, но отпустите, его!
Всем телом женщина подалась вперед, преобразилась, глаза ее сухо заблестели, голос звучал исступленно. Слова страстной мольбы стали понятны и без перевода. Он смотрел на нее и думал о Хулан — сможет ли она вот так же безоглядно и бестрепетно отдать за него свою жизнь? Наверное, сможет…
И эта утешительная мысль расслабила его. Он взглянул на Боорчу вопрошающе.
— Спасать уже некого, хан. Все убиты.
Переводчик передал женщине его слова. Пошатываясь, она вышла из юрты.
В душе хана тут же угасло мимолетное сожаление. Он облегченно вздохнул. Не пришлось лишний раз переступать через собственное установление. Милость к врагу пагубна…
Почти с такой же, как у женщины, просьбой пришел и сотник-кидань.
Вчера воины хана обложили небольшой городок, где сотник родился и где до сих пор живут родители. Не будет ли хан так великодушен, не повелит ли не грабить город и не убивать его жителей.
— Мы зачем сюда пришли? Раздавать милости? Один припадает к ногам смилуйся, другой — смилуйся. Друг Боорчу, гони подобных просителей в шею!
— Это можно, хан, — сказал Боорчу. — Однако город еще только обложили…
— Понятно, друг Боорчу. Ну, что же, сотник, дарую твоему городу жизнь. Но ты сам должен привести его к покорности. Если падет хотя бы один мой воин, пощады не будет никому.
Сотник ушел, в смущении царапая затылок.
— Монахи тоже будут просить защиты?
— Не совсем, хан. Но их ты послушай. Забавные люди.
Монахов было двое. Оба в стоптанной обуви, в широченных халатах из грубого холста, подпоясанных под грудью веревками, с суковатыми палками в руках.
— На кого жалуетесь?
Монах постарше, сгорбленный, худой, с лиловой бородавкой на носу, заговорил глухим голосом:
— Мы никогда ни на кого не жалуемся, ни у кого ничего не просим. Но твои воины просят у нас драгоценностей, ищут серебро и золото. Мы не стяжаем богатств, зачем же мучиться вам и тревожить покой старцев, познающих дао — путь всего сущего?
— Что это за дао и что оно дает людям?
— Дао — начало всех начал и предопределенность всех изменений.
Несчастья бывают оттого, что люди по незнанию или недомыслию начинают ломать предопределенность.
— У вас дао, у нас воля неба. У нас все понятно, а у вас слова затемняют смысл.
Монахи пошептались, и старший сказал:
— Вы не все поняли. Попробуем объяснить проще. По учению великого Лао-цзы, все в мире подвержено изменениям. Одно набирает силы, другое ослабевает, одно создается, другое разрушается, одно увеличивается, другое уменьшается. Несходное нераздельно, как две стороны одной монеты. Не бывает длинного, если нет короткого, не бывает высокого, если нет низкого, не бывает трудного, если нет легкого, не бывает добра, если нет зла.
«Что ж, замечено верно, — подумал он. — К этому можно добавить многое. Не бывает радости, если нет огорчения, не бывает покоя, если нет тревог…»
— Что же дальше?
— Ни один цветок не может цвести вечно. За расцветом следует увядание. Из двух несходностей одна сменяет другую. На беде покоится счастье, счастье порождает беду.
Смутен был смысл этих слов, что-то казалось верным, но что-то и настораживало. Нетерпеливо поторопил:
— Говорите короче и проще, проще!..