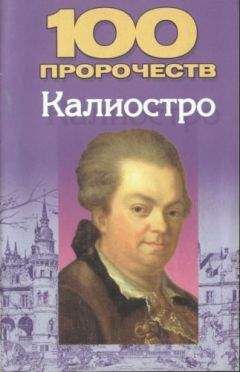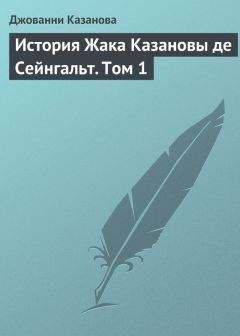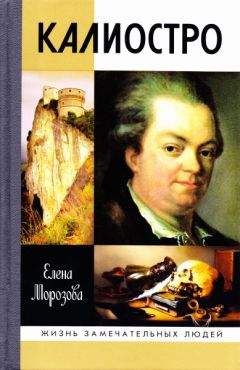Ёжи Журек - Казанова
— Природа этого эксперимента чрезвычайно сложна, и отдельные его стадии редко удаются с первого раза, посему предлагаю набраться терпения. Нижайше прошу вас об этом от имени Иеремии Великого и его помощников. Будьте терпеливы и снисходительны. Недоброжелательная мысль или, не дай Бог, слово могут привести к катастрофе.
— А разве это еще не катастрофа?
Гадать, из какой усатой пасти вырвался вопрос, не понадобилось. Джакомо не впервые слышал этот голос. Безмозглый чурбан. Еще одно слово, и он воткнет этот чертов, обжигающий пальцы ключ ему в задницу. Король жестом осадил Браницкого, а может, только прикрыл ладонью улыбку.
Но то была еще не настоящая катастрофа. Настоящая произошла минуту спустя, когда Иеремия, не дожидаясь знака, взялся за большой медный чайник и под аккомпанемент речей Казановы, сдавленным голосом убеждающего зрителей в превосходстве духа над плотью, уронил его себе на ноги. Случилось непоправимое. Джакомо кинул яростный взгляд на Василя. Занавес!
Счастье ему изменило. Позор. Полный провал. Кошмарный сон наяву. Он стоит перед этой знатью, нагой и босой, с поникшей головой и вялой морковкой вместо могучей палицы. Чего надо той калмыцкой образине? Помощники, называется! Пусть сгинут с глаз долой — он за себя не отвечает. С удовольствием всадил бы всем по ключу в задницу, всем, кроме этой суки Поли, которая ему еще и спасибо скажет.
Зал пришел в движение: кто-то незаметно протискивается от сцены к трону, кто-то повернулся спиной, дамы заслоняют веерами лица. Бинетти сверлит его злобным взглядом, будто он опозорился ей в отместку. Смех Браницкого и Катай, недоверие в глазах епископа Красицкого, презрение на лице посла Репнина. А король? Король ждет, подперев ладонью щеку, будто добросовестное классическое воспитание и придворный этикет заставляют его, не подавая виду, дотерпеть до конца.
* * *Это шанс. Но что ему — голому, босому, оскопленному — с этим шансом делать? Он недостоин благосклонности монарха.
И все же кто-то ему улыбается. Князь Казимеж. Улыбается и многозначительно подмигивает, словно они, сговорившись, откололи отменную шутку. Считает его остроумцем, а то, что произошло, — шутовской выходкой? Боже, неужто это знак, которого он ждал? Он будет шутом. Шутам прощают неудачи и постыдные провалы, шутов допускают к трону и в спальню. При здешнем дворе шута нет. Не было до сегодняшнего дня.
Джакомо еще раз поклонился — так низко, что вынужден был опереться на руку, чтоб не упасть. Неплохо: веселый шумок прибавил ему сил.
А король? Пока ничего. Боже, помоги шуту!
— Это была всего лишь проба. Неблагоприятное расположение звезд и противостояние Венеры и Марса привели, как вы могли заметить, к тому, что первая попытка, — подбросил вверх согревшийся в ладони ключ, ловко его поймал, — оказалась не по зубам нашему маленькому Иеремии Великому.
Никто не засмеялся, он же охотно плюнул бы себе в рожу, за подобострастную улыбку, а горе-помощников разогнал на все четыре стороны. Что и сделает, как пить дать сделает, только бы пережить эти мучительные минуты. Их всех разгонит, а себя осыплет проклятиями. Мотыгой замахнулся на солнце. Занятие для глупца. Или самоубийцы. Ему, правда, не впервой… Но сейчас солнце выше, мотыга тяжелее, а отступать некуда.
— Ну и есть ли тут какой-нибудь выход?
— Есть. Через дверь.
Услышал или сам произнес эти слова? От напряжения в голове туман.
— Есть. Целых два. Первый — чисто логический. Если признать — а с какой стати отрицать божественные законы логики? — что исключение, любое исключение, подтверждает правило, которому противоречит, можно посчитать неудачу несущественной, нашу же попытку — удачной.
— Как бы не так!
Это тосканский художник, у которого он увел Полю. Да как он смеет, наглец! Тоже претендует на шутовской колпак? Ну и просчитался. Король ободряюще улыбнулся и поудобнее уселся в кресле, словно не сомневаясь, что сейчас наступит самое интересное.
— А это вы где вычитали, у какого философа?
— У российского мыслителя, ваше величество, князя Жопского, которого недавно имел случай лицезреть во всей красе, а уж лобызал неоднократно.
Выпалил эту фразу на последнем дыхании, однако — ура! — король от души рассмеялся.
— А второй выход?
— Второй выход лишен ослепительной простоты первого. Зато сулит незабываемое впечатление.
— Опять обещания. Из посула, как говорится, не сошьешь кафтана.
Эта выбритая скотина осмеливается при короле отпускать такие шуточки. Но король будто не услышал. Может, это не настоящий монарх, а опять его большелапый двойник? Поиздеваться вздумали над шутом? Настоящий король польский, Великий князь Русский, Прусский, Литовский и черт-те какой еще прибудет позже, и тогда все начнется сначала: Иеремия, табакерка, чайник, смех.
— Ну и что же это будет?
Настоящий. Только настоящий способен так невозмутимо не слышать. Да и туфли с золотыми пряжками скрывают небольшую изящную ногу.
— Это будет, мой король, очередное доказательство превосходства духа над материей.
— Лучше покажи, на что ты в самом деле способен.
— Надо полагать, не при дамах?
Браницкий и эта, наряженная человеком, тосканская обезьяна. Джакомо послал им лучезарную улыбку. Да, да, имел я твою Полю на сто пятьдесят пять разных ладов, а когда надоело, отдал слугам. А про твою Катай знаю столько, сколько тебе до конца дней не узнать.
— У вас нет оснований для тревоги, господа. Я намерен показать то, что умею делать лучше кого бы то ни было. И дамы могут не беспокоиться: их скромность не будет оскорблена.
Унылый шут, зануда. Необходимо сменить тон.
— Разве что…
Заметно поскучневший князь Казимеж оживился:
— Разве что? Вы хотите сказать: вдруг не получится?
— Напротив. Вдруг получится.
Лучше б ему не слышать этого смеха, не видеть лицемерного сочувствия, плохо маскирующего презрение к чудотворцу, который сам иронизирует над своими обещаниями. Ладно, пусть считают его шутом, обманщиком, наглым вымогателем, пусть думают что хотят. Только бы дождаться своего часа.
С милостивого соизволения Станислава Августа, короля Польши, Великого князя Литвы, Руси, Пруссии и еще каких-то шелестящих во рту краев — дождался. Монаршья рука, украшенная рубином величиной с куриное яйцо, заставила всех угомониться. Пора. Хватит паясничать. И вдруг… пустота. Что? Кто? Уж конечно, не Поля. Из-за нее все полетело кувырком. Глаза бы его на нее не смотрели. Где Лили и двойняшки? Стул на месте. Но кого на него усадить? Пышное платье — это хорошо. Но только никакой плоти. Из-за ее избытка он теперь на краю пропасти. Епископ! Эту мысль, наверно, небеса подсказали. Епископ Красицкий. Джакомо чувствовал, что тот не откажет. Пытался, правда, робко отнекивался и все же, встретившись глазами с Казановой, согласился, к радости свиты князя Казимежа. Боже, подумал Джакомо, я, наверно, похож на побитого пса. Один епископ это заметил, но он же и увидел во мне человека. Притом человека, нуждающегося в помощи. А те остальные… им лишь бы повеселиться да позубоскалить. Глядят на меня, как на пса, и псом считают или, в лучшем случае, шутом, балансирующим на перекинутом через пропасть канате.
И вот уже на стуле перед ним епископ, раздираемый противоречивыми чувствами: тревогой высокопоставленного служителя церкви, стоицизмом мудреца и желанием позабавиться ценящего остроумие поэта. Рядом сестрички, Этель и Сара, которых нарядили и причесали придворные дамы, только и ждут его знака, чтобы, словно экзотические бабочки, вспорхнуть в воздух. Но у него руки и ноги по-прежнему налиты свинцом. Он способен улыбаться, — кланяться, незаметно поплевывать на пальцы, чтобы лучше слушались, но застрявший в груди комок боли, страха и обиды стесняет дыхание. Ему не расшевелить королевских гостей, не одолеть их холодного презрения, а уж тем более почти нескрываемой издевки. Джакомо явственно ощутил, как падает со своего каната в бездну, как стул с епископом переворачивается и святейшие руки цепляются за что попало, лишь бы не полететь вместе со стулом на пол. Кошмар. Неужто ему суждено такое? Не триумф, а позорная ретирада — крадучись, по стенке, — или кое-что похуже, если кто-нибудь сочтет его выходку оскорблением монаршьего достоинства? Ну и ладно, пускай бросают в темницу, он хоть отдохнет от этой нервотрепки. Рехнулся? Нисколько. Голыми руками его не взять. Никому и никогда. И уж, ясное дело, тем, кто сейчас ждет его провала. Рванул ворот рубашки. Они что, и воздух хотят отобрать?
Резко расправил плечи. Кого он боится? Разве они не такие же смертные? Лишить титулов, содрать богатые одежды — и что останется? Стадо перепуганных людишках. Ему тут же представилась эта картина: втягивающие животы мужчины с бритыми затылками и стыдливо съежившиеся женщины. Острые лопатки, обвислые груди, кривые ноги прячущих лица за веерами насмешниц, дряблые мышцы, гнилые зубы и похожие на свиные хвостики члены премудрых придворных. Браницкий, волосатый, как обезьяна, князь Казимеж с копьем, готовым вонзиться в кого ни попадя. И лишь Катай с вызывающе торчащими грудями, как всегда ослепительная; что это — кара или обещание награды? Да это же библейский Страшный Суд, на котором не они — жалкие, грешные, ничтожные — выносят приговор, а он — уже овладевший собой, сосредоточенный, способный мановением десницы обратить их всех в прах.